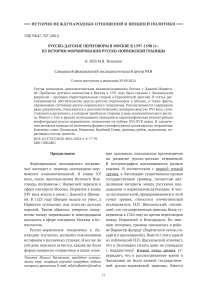Русско-датские переговоры в Москве в 1597–1598 гг.: из истории формирования русско-норвежской границы
Автор: Толкачев М.В.
Рубрика: История международных отношений и внешней политики
Статья в выпуске: 4 т.6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дипломатическим взаимоотношениям России с Данией-Норвегией. Прибытие датского посольства в Москву в 1597 году было связано с Лапландским вопросом - крупным территориальным спором в Европейской Арктике. В статье рассматриваются обстоятельства русско-датских переговоров в Москве, а также факты, отражающие состояние русско-норвежского пограничья. Рассматривается содержание ряда документов, относящихся к дипломатическому делопроизводству XVI века, сопоставляются аргументы, к которым прибегали стороны в ходе дипломатического диспута. Вместе с тем в рамках исследования проводится картографическая реконструкция конфигурации русско-норвежского пограничья на рубеже XVI-XVII веков. В заключении делаются выводы об изменении формы и конфигурации лапландского пограничья.
Лапландия, норвегия, крайний север, граница, рубеж, пограничье, переговоры, послы, грамота
Короткий адрес: https://sciup.org/148330852
IDR: 148330852 | УДК: 94(47, | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-4-77-91
Текст научной статьи Русско-датские переговоры в Москве в 1597–1598 гг.: из истории формирования русско-норвежской границы
ние оказывали лапландские противоречия на развитие русско-датских отношений. В историографии высказываются разные мнения. В соответствии с первой точкой зрения, в Лапландии существовала единая государственная граница, полностью разделявшая интересы между русскими подданными и норвежцами/датчанами. К числу исследователей, придерживавшихся этой точки зрения, относится отечественный исследователь И.П. Шаскольский, считавший, что государственная граница была утверждена в 1326 году во время переговоров между Норвегией и Новгородом. По мнению историка, граница находилась в районе Варангер-фьорда2 (Варенгский залив, см. карты в приложениях). Вместе с тем в одной из публикаций И.П. Шаскольский отмечает, что в Лапландии уплата дани не совпадала с подданством3. Вторая точка зрения утверждает, что в рассматриваемое время в Лапландии не было единой государственной русско-норвежской границы. Вместо нее на территории северной Норвегии и Кольского полуострова существовал общий налогооблагаемый округ. К числу ученых, отстаивающих эту точку зрения, относится современный датский исследователь Дж. Х. Линд, который считает, что в 1326 году новгородцы и норвежцы договорились лишь о рубежах общего налогооблагаемого райо-на4. Современный российский историк П.В. Федоров также отмечает, что мнение о появлении единой государственной границы в Лапландии в столь ранний период не может быть принято без критики5. Наконец, третья точка зрения гласит, что в Лапландии одновременно существовал и общий налогооблагаемый округ, и единая государственная граница. О возможности подобной конфигурации писал отечественный исследователь И.Ф. Ушаков, считавший, что в 1326 году произошло разграничение лишь преимущественных интересов, в то же время общий округ по сбору дани продолжал свое существование6. К похожему выводу приходит современный датский исследователь Карстен Папе, который утверждает, что в русско-норвежском пограничье в Лапландии сложилась двойная система границ, состоявшая из государственной «политической» границы и из рубежей общего налогооблагаемого округа7. Норвежский исследователь Л.И. Хансен подтверждает эту точку зрения8.
При исследовании мы обращались главным образом к двум комплексам источников. Первый комплекс документов содержится в рамках архивного дела №2 от 1578 года (Российский государственный архив древних актов, фонд 53, опись 1, дело 2, 1578 год). Здесь содержатся документы, относящиеся к русско-датским дипломатическим отношениям в рамках лапландского вопроса. Особое внимание привлекает переписка между русскими царями и королями Дании-Норвегии, а также выписки относительно наказов (инструкций), составлявшихся для русских послов. Второй комплекс источников содержится в небезызвестных сборниках, опубликованных дореволюционным исследователем Ю.Н. Щербачевым9. Здесь опубликованы документы, извлеченные из Копенгагенского государственного архива – государственные грамоты, международные договоры и другая документация.
Пограничный съезд в Лапландии в 1586 году, отправка русских послов на Кольский полуостров в 1592 году
В качестве способа разрешения Лапландского спора, обострившегося во второй половине XVI века, Москва и Копенгаген избрали пограничные съезды. Для нас информация об этих съездах представляет интерес, поскольку содержит подробности, относящиеся к конфигурации русско-норвежского пограничья. В 80-е годы стороны предприняли попытку организовать подобный съезд. Переговоры решено было провести в 1586 году. Датским уполномоченным тогда было поручено подтвердить права короля на всю Лапландию, включая Кольский полуостров10. Отметим, что датские сборщики действительно приходили на Кольскую землю и собирали дань параллельно с русскими даньщиками11. Москва пыталась оспорить эту практику и одновременно старалась закрепить свое право сбора дани в Финнмарке12 – территории, находившейся под преимущественным контролем датского и норвежского короля. С русской стороны на переговоры в 1586 году были отправлены князь И.М. Борятинский, Г.Б. Васильчиков и подьячий И. Максимов13. Русским послам тогда поручалось обсудить два варианта установления границ. Первый вариант предполагал сохранение общего лапландского округа и одновременно установление государственной границы. Государственная граница, которая разделяла бы преимущественные политические интересы, должна была проходить по реке Полной14 в районе Варангер-фьорда. При этом западный налогооблагаемый рубеж, отделявший Лапландию от Норвегии, должен был проходить по реке Ивгей15 (см. карты в приложениях), протекавшей в окрестностях города Тром- сё16. Восточный же рубеж налогооблагаемого округа должен был совпадать с государственной границей по реке Полной. Общий округ, таким образом, должен был полностью расположиться на территории Финнмарка, находившегося под преимущественным контролем Дании-Норвегии. Второй вариант предполагал создание общей территории, но в значительно меньших размерах. Русский рубеж этой территории должен был проходить по реке Тенуй (Тенная, Танаэльв)17, а норвежский рубеж – по реке Полной18. Расстояние между рекой Полной и рекой Тенуй (Тенной) недостаточно большое, чтобы считать его общим дистриктом – обе реки протекают в одной окрестности. Пространство между реками, таким образом, должно было выполнять функцию государственной границы и только19. Из этих инструкций видно, что в Лапландии действительно могла существовать двойная система границ, включавшая в себя «политическую» границу и рубежи общего налогооблагаемого округа.
Надо сказать, что съезд 1586 года не состоялся, поскольку русские и датские послы разминулись и не застали друг друга в Ла-пландии20. Русские судьи, прибыв в Колу с опозданием, были вынуждены возвращаться, не встретившись с датчанами21. Через несколько лет была предпринята попытка организовать новый пограничный съезд. В 1592 году в Лапландию были направлены князь С.Г. Звенигородский, Г.Б. Васильчиков, дьяк И. Максимов22. Русские послы прибыли на место к назначенному сроку, однако встреча вновь не состоялась. На этот раз на месте не оказалось королевских по-слов23. Из Варгава прибыл представитель датской администрации – капитан Томас Норман – с двумя грамотами от Христиана IV. Одна грамота была адресована Федору Иоанновичу24, вторая грамота – русским послам25. В грамоте, адресованной русским уполномоченным, король пояснял, что гонец с извещением о намеченном пограничном съезде так и не вернулся из России, по этой причине Христиан IV не стал отправлять своих уполномоченных26.
В марте 1593 года Христиан IV писал царю с предложением организовать новый пограничный съезд в Лапландии к 1 июля 1595 года27. Федор Иоаннович вновь ответил согласием28.
Ужесточение податной политики со стороны Дании, пограничный съезд в Лапландии в 1595 году
Изначально каждая из сторон – русская и датская – собирала с лопарей дань ограниченного размера, учитывая обязательство местных жителей по выплате податей двум государствам. Однако в 7099 г. (1590/1591) датские власти изменили систему сбора податей и начали облагать данью каждого человека, а не угодье, как это было ранее. Зачастую это приводило к увеличению размера выплат. Историк П.В. Федоров особо обращает внимание на изменение соотношения размеров податей, собиравшихся русскими и датскими сборщиками. Так, в 1580-е годы датские сборщики должны были взимать с православных лопарей дань размером меньшую той дани, которую брали русские сборщики. Начиная с 1591 года размер датской дани не только сравнялся с русской, но и превысил ее29. Таким образом, после 1590/1591 г. датская администрация вводит единообразный порядок взимания дани с «человека». При этом «Человек» в датской податной системе не равнозначен «людям» русских писцовых книг. «Люди» – женатые мужчины, владельцы дворов. Датская же дань распространялась на все население, независимо от пола и возраста. Усиление податного пресса Данией может рассматриваться как одно из средств борьбы за господство на Крайнем Севере Европы30.
На фоне таких событий была предпринята новая попытка переговоров. Для участия в очередном пограничном съезде в 1595 году в Колу были отправлены русские послы - князь С.Г. Звенигородский и дьяк
И. Максимов31. В качестве первого варианта русские уполномоченные должны были предложить установить одну-единствен-ную границу с владениями датского и норвежского короля по реке Ивгей: «говорити з дацкими послы чтоб учинити рубеж лопской земле меж норвецкие земли Ивгей реку»32. В качестве второго варианта русские послы должны были предложить двойную систему границ с общим округом по сбору дани. В рамках этого варианта было предусмотрено две меры. Первая мера предполагала установление государственной границы внутри Лапландии по реке Полной. Здесь же должен был проходить восточный налогооблагаемый рубеж. Западный налогооблагаемый рубеж лапландских земель должен был проходить по реке Ивгей33. В соответствии со второй мерой государственная граница внутри Лапландии также должна была проходить по реке Полной. Здесь же должен был находиться восточный налогооблагаемый рубеж. Западный налогооблагаемый рубеж должен был пройти восточнее реки Ивгей – по реке Алатека (Алтаэльва)34: «рубеж чтоб учинити с норвецкою землею по реку по Алатеку»35. Таким образом, вариант двойной системы границ в Лапландии по-прежнему не исключался.
С датской стороны для участия в пограничном съезде были назначены послы Ове Лунге, Пребен Гюльденстерн, Лоренц Крус и Симон фон-Салинген36. В соответствии с королевскими инструкциями датские дипломаты должны были утвердить права Христиана IV на всю Лапландию, включая Кольский полуостров37, используя следующие аргументы:
Аргумент 1. Вся Лапландия издавна принадлежала норвежским королям;
Аргумент 2. Русские люди называют Лапландию «Мурманской», то есть «Норманской» землей;
Аргумент 3. Варгавский державец (фогт Вардё) издавна направлял своих сборщиков дани к Белому морю;
Аргумент 4. Тридцать лет назад на месте города Колы стояли всего три крестьян- ские избы, и варгавский державец взимал с окрестных жителей дань38.
Однако, как это уже случалось ранее, русские и датские послы разминулись, и пограничный съезд вновь не состоялся. Датские дипломаты прибыли на место первыми. Кольский приказной человек И.С. Салманов уведомил датчан о том, что русские судьи задерживаются в пути39. Однако датские дипломаты покинули место проведения переговоров, объявив при этом протест русской стороне40.
Прибытие датского посольства в Россию в 1597 году
Становилось очевидно, что стороны были не в состоянии организовать пограничный съезд в Лапландии в силу тех или иных обстоятельств. Требовалась иная форма организации переговоров. В июне 1597 г. от лица Христиана IV была составлена грамота для царя Федра Иоанновича, в которой сообщалось о намерении короля направить датских послов непосредственно в Москву. В связи с этим датская сторона просила направить в Ивангород, через который посольство должно было прибыть в Россию, так называемую опасную грамоту, которая в соответствии с посольским обычаем гарантировала бы датским дипломатам полную свободу, чтобы прибыть в Россию или отбыть из нее в любой удобный момент41. В июле 1597 года в Москву прибыл датский гонец Анц Михайлов Ум с прошением о предоставлении упомянутой опасной грамоты для назначенных в Россию датских послов42. Грамота была предоставлена43.
В качестве датских послов в Россию на переговоры к царю Федору Иоанновичу были назначены Стен Матцен (Sten Matzen) и Юрген Сваб (Jurgen Svab). Им было приказано придерживаться той самой инструкции и аргументации, которая была подготовлена при отправке в 1595 г. в Лапландию предыдущего датского посольства. В качестве самой первой меры датские послы должны были потребовать немедленной передачи в сторону короля той приграничной территории, на которой располагался Печенгский монастырь. Остальные территории в соответствии с требованиями датской стороны должны были передаваться в течение сроков, которые предстояло утвердить в ходе переговоров. В соответствии с инструкциями послы не должны были оставаться в Москве более 8 недель, чтобы успеть до наступления зимы вернуться в Нарву, откуда они могли продолжить путь в Данию. В том случае, если датским послам пришлось бы задержаться дольше, им предписывалось в срочном порядке возвращаться в Данию зимним «сухим» путем44. В августе 1597 г. в соответствии с дипломатическим обычаем была составлена специальная верительная грамота, в которой король подтверждал личности и полномочия своих послов, направлявшихся к царю45.
Как и предполагалось, датские послы прибыли в Россию балтийским морским маршрутом через Ивангород. Сюда были отправлены царские люди. Для встречи и сопровождения высоких гостей был назначен пристав Федор Жихорев, который должен был проводить датское посольство до Москвы. Следуя посольскому обычаю, русская сторона взяла на себя продуктовое снабжение участников иностранного посольства сразу же после их прибытия в Россию. Для этого были специально заготовлены продовольственные запасы, в числе которых были утки, куры, баранина, говядина, свинина, яйца, хлеб и различные напитки46.
Датское посольство прибыло к Москве 9 декабря 1597 г. При въезде в город для высоких гостей организовали торжественную встречу с участием большого количества людей. На время пребывания в Москве участникам датского посольства выделили продовольственное снабжение – уксус, вино, мед, зайцев, кур, говядину, свинину, яйца, масло и прочие продукты. 28 декабря датские дипломаты были торжественно представлены царю Федору Иоанновичу. Во время встречи с государем датские дипломаты говорили о спорных лапландских землях, однако какого-либо взаимного договора учинено не было47. «Краткая выписка», хранящаяся в фондах РГАДА, содержит небольшое описание этой аудиенции. В документе наравне с прочим говорится, что государь находился в царской палате, на своем месте, облаченный в богатые одежды. Справа от государя стоял Борис Годунов, а чуть поодаль от царского места располагались большие лавки, на которых сидели бояре в «золотных» шубах. На приеме датские дипломаты поприветствовали государя и передали поклон от короля Христиана IV48. После торжественной аудиенции начались трудные переговоры. Датские послы на посольстве подали письмо, в котором говорилось, что русские люди селятся на землях, принадлежащих датскому королю, и что Россия неправомерно взимает дань с подданных короля, о чем датские власти неоднократно извещали русскую сторону ранее. Далее в предоставленном письме предлагалось установить разграничение в спорных лапландских землях49. В ходе переговоров датские дипломаты предъявили претензии на огромную территорию, заявив, что «рубеж будто той Лопской земле с великого государя (царя. – прим. М.Т.) ... землею от Корелы река Фига, и тою рекою рубежи к востоку, а з другую сторону к северу и к западу рекою Фигою до Кавока, а от Кавока до Ковды, да на Кандалакшу, да на Варзугу, да к Трензи, а оттуда к Семи островом, да на Колу, да на Варгав»50. Если сопоставить предлагаемую датчанами конфигурацию границы с современной картой, то можно увидеть, что датская сторона претендовала на обширные северные территории, включая Беломорье. Датские послы предлагали провести границу от Карелии до побережья Белого моря, затем по побережью Белого моря на север через село Ковда51, через Кан-далакшу52, через Варзугу53, затем на север к побережью Баренцева моря до Семи остро-вов54, затем на запад через Колу в сторону Варгава (Вардё). Таким образом, датская сторона старалась переместить предмет спора как можно восточнее, предъявляя претензии на территорию, соответствующую большей части современной Мурманской области. Естественно, столь обширные претензии, не учитывающие интересы русской стороны, не могли быть удовлетворены русскими властями. Для решения проблемы требовался долгий и обстоятельный диалог, однако дипломатические переговоры так и не были доведены до конца из-за наступившей в 1598 году смерти царя Федора.
Отбытие датского посольства из России в 1598 году
Утвердившийся в том же 1598 году на царском престоле Борис Годунов не стал принимать находившихся в Москве датских послов55 . Вместо этого государь поручил вести переговоры посольскому дьяку Василию Щелкалову56, который, в свою очередь, предупредил датских дипломатов о том, что переговоры с ним носят характер частных бесед и не могут официально повлиять на что-либо57. Во время этих бесед датским послам было сказано, что вся Лапландия является землей Новгородской, а значит, должна принадлежать русскому царю. В итоге датское посольство было вынуждено покинуть Россию, не достигнув своих целей58.
При этом перед отбытием из Москвы для датских послов было составлено специальное ответное извещение на их посольство. В начале извещения датским послам сообщалось о смерти царя Федора Иоанновича и о воцарении Бориса Годунова, упоминалось, что Борис Годунов в курсе вопросов, с которыми приехали датские дипломаты59. В извещении упоминалось и о срывах намечавшихся ранее пограничных съездов в Лапландии, но при этом говорилось, что в знак дружественных отношений с королем Борис Годунов готов направить в Колу новое посольство для переговоров о разграничении, если король Христиан IV пожелает это-го60. Далее в ответном извещении оспаривается утверждение датской стороны, будто Лапландия является частью Норвегии и что русские люди стали селиться, строить мо- настыри и взимать подати на территориях, принадлежавших королю Дании и Норвегии. Конфигурация границы, предложенная датской стороной, также оспаривается в извещении: «А что написано в вашем писме, будтося Лопская земля вся исстари государя вашего Норветцкие земли, а рубеж будто той Лопской земле с великого государя нашего землею от Корелы река Фига, и тою рекою рубежи к востоку, а з другую сторону к северу и к западу рекою Фигою до Каво-ка, а от Кавока до Ковды, да на Кандалакшу, да на Варзугу, да к Трензи, а оттуда к Семи островом, да на Колу, да на Варгав, и все те земли, что меж тех земель Лопские земли будто государя вашего Норветцкие земли, а великого государя нашего люди на ней посели ... а Мурманское море принадлежит к Норветцкой земле, и потому будтося та вся Лопская земля Норветцкие земли, – и такие непригожие дела к доброму делу не присто-ят. Лопская земля искони вечная вотчина царского величества к Великому Новугоро-ду з Двинскою землею»61.
Далее по тексту ответного извещения, составленного для датских дипломатов, можно выделить следующие аргументы, к которым прибегала русская сторона, отстаивая свою позицию:
Аргумент 1: Лопская земля исконно принадлежала Новгороду Великому с Двинской землей: «Лопская земля искони вечная вотчина царского величества к Великому Новугороду з Двинскою землею»62.
Аргумент 2: Более восьмидесяти лет назад в Лапландии был основан православный Печенгский монастырь: «и на той земле монастырь Печенской ... а монастырь Печен-ской стоит болши осмидесять лет»63.
Аргумент 3: Русские сборщики дани с давних времен собирают дань в Лапландии: «и дань с той Лопской земли дают искони вечно великого государя нашего дан-щиком»64.
Аргумент 4: Лапландия никогда не принадлежала Норвегии, и прежние датские короли никогда в Лапландию не вступались: «А к вашего государя к Норвецкой земле Лопская земля исстари не бывала, и прежние датцкие короли николи в те волости и в древний в Печенской монастырь не вступалися ...»65.
Аргумент 5: Во время переговоров с датским посольством Эйлера Харденберга о заключении русско-датского договора в 1562 году никаких споров о Лапландии не было: «и о тех землях, о Лопских погостех, и о Пе-ченском монастыре, и о Колской волости и о иных волостях и слова не бывало»66.
Аргумент 6: Во время переговоров с посольством Якоба Ульфельдта в 1578 году датская сторона не предъявляла столь обширных претензий относительно Лапландии, единственное о чем шла речь – это о том, что подданные русского государя вступаются в окрестности Варгава: «толко говорили о том, что великого государя, блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, люди вступаютца в Норветцкую землю в Варгав»67.
Аргумент 7: Во время прошлых посольств в Лапландию русские послы отыскали старожил, которые сообщили, что прямой рубеж между Лопской землей и Норвегией проходит по реке Ивгей, которая более чем в тысяче верст к западу от города Колы, и русские сборщики ходят собирать дань до этой реки и за нее: «И сыскали послы старожилцы, что Лопской земле прямой рубеж с Норветцкою землею река Ивгей68, от государя нашего Колского острогу болши тысячи верст; да и за Ивгей реку данщики великого государя нашего царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии для дани ходят»69.
Аргумент 8: Город Варгав (Вардё) стоит на лапландской земле, принадлежащей русскому государю, в связи с чем датскому королю следует либо передать Варгав в русскую сторону, либо разрушить его: «А по сыску старожилцов ино и город Варгав с во-лостми стоит на государя нашего отчинной земле на Лопской ... И Крестьянус бы король ... город Варгав царскому величеству поступился, или тот город разорити велел, потому что тот город поставлен на великого госуда- ря нашего земле Новгородцкого уезда ... И за тот город Варгав царского величества отчины Лопские земли болши тысечи верст, и потому тут тому городу быти непригоже»70.
Последние два аргумента особенно важны. Они показывают, какую конфигурацию границы предлагала русская сторона. Исходя из этих двух аргументов Москва выдвигала требования на западную Лапландию – Финнмарк. В качестве единой государственной границы русская сторона предлагала реку Ивгей, которая ранее являлась западным рубежом общего налогооблагаемого округа. При этом сам налогооблагаемый округ в Лапландии должен был прекратить свое действие: «И за ту б реку (Ивгей река. – прим. М.Т.) в царского величества землю государя вашего данщики не входили и в перед не задирали, а великого государя нашего царя и великого князя Бориса Федоровича, всеа Русии самодержца, данщики по тому же за тое реку в государя вашего землю не входили и не задирали»71. Заметим, что в ответном извещении содержится достаточно точное указание на расположение реки Ивгей, чего не встречается в более ранних документах: «И та река Ивгей, по выпросу старожилцов, с верховья шла от Свейские земли и пала в море в аки-ян от государя вашего городка Стромшуя (Тромсё. – прим. М.Т.) верст за пятдесят»72.
Но почему же Россия решила предъявить столь серьезные претензии на Лапландию в этот раз? По-видимому, это был зеркальный ответ на претензии датской стороны, предъявленные в отношении всей Лапландии, включая Кольский полуостров. В любом случае Москва и Копенгаген встали на путь пересмотра существующего положения вещей в русско-норвежском пограничье. Вместе с тем надо сказать, что в описанном выше ответном извещении русская сторона старалась придерживаться позитивного дипломатического тона. В извещении сказано, что Борис Годунов желает сохранить дружеские и добрососедские отношения с датским королем по прежнему обычаю73.
В своем отчете на имя короля датские дипломаты сообщили о том, что вели переговоры о разграничении Лапландии с дьяком Василием Щелкаловым. Эти переговоры носили характер частных бесед и не привели к заключению какого-либо официального двустороннего соглашения74.