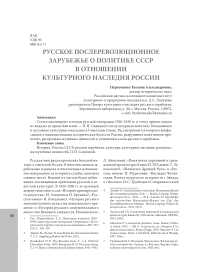Русское послереволюционное зарубежье о политике СССР в отношении культурного наследия России
Автор: Пархоменко Татьяна Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья анализирует взгляды русской эмиграции 1920-1930 гг. и точку зрения одного из видных ее представителей - П. Н. Савицкого на культурную политику большевиков и состояние культурного наследия в Советском Союзе. Рассматриваются вопросы конфискации и национализации исторических богатств России, разрушения памятников прошлого, распродажи музейных ценностей и отношения к ним русского зарубежья.
История, Россия, ссср, русское зарубежье, культура, культурное наследие, распродажа музейных ценностей, п. н. савицкий
Короткий адрес: https://sciup.org/170174175
IDR: 170174175 | УДК: 93
Текст научной статьи Русское послереволюционное зарубежье о политике СССР в отношении культурного наследия России
Русская эмиграция проявляла большой интерес к советской России. В многочисленных зарубежных изданиях отечественных изгнанников тема родины, ее истории и судьбы, занимала главное место. Важной их частью были публикации, посвященные проблемам русской и советской культуры1. В 1920–1930 гг. за границей вышли такие книги, как «История древнерусского искусства» М. Алпатова и Н. Брунова2, «Русская икона» Н. Кондакова3, «История русского монументального искусства домосковского времени» и «История русского монументального искусства Великого княжества Московского»
-
1 См.: Пархоменко Т. А. Немецкие издания 1920–
1930 годов о русской эмиграции в Германии // Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 2 (33). С. 120–135.
-
2 Alpatov M., Brunov N. Geschichte der altrussischen Kunst. T. 1–2. Augsburg; Baden bei Wien, 1932.
-
3 Kondakow N. P. The Russian Icon. Т. 1–4. Oxford: Clarendon Press, 1927; Кондаков Н. П. Русская икона. Т. 1–4. Прага: Seminarium Kodakovianum, 1931–1933.
Д. Айналова4, «Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI–XIX веков» Г. Лу-комского5, «Живопись Древней Руси» и «Русские иконы» П. Муратова6, «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» Н. С. Трубецкого7, сборники статей
-
4 Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischer Zeit. — Berlin, Leipzig: Walter de Gruyter & co., 1932. — 95 S.; Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des GrossfLIrstentume Moskau. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter & co., 1933. 135 S.
-
5 Лукомский Г. К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI–XIX веков. Мюнхен: ОРХИС, 1923. 180 с.
-
6 Muratow P. L»ancienne peinture russe. Roma; Praha: A. Stock, 1925. — 181 P.; то же на ит. яз.: Muratov P. La pittura russa antica. Roma; Praga, 1925; Muratov P. Les icones russes. Paris: J. Schiffrin, Editions de la Pleiade, 1927. 266 с.
-
7 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Взгляд на рус
скую историю не с Запада, а с Востока. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1925. 60 с.
«Россия и латинство»8, «На путях. Утверждение евразийцев»9 и другие.
Среди зарубежных публикаций особой актуальностью выделялись работы видного представителя эмиграции, идеолога евразийства Петра Николаевича Савицкого, громкое название которых говорило само за себя: «Разрушающие свою Родину (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР)» и «Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ (Разгром русского зодческого наследия и необходимость его восстанов-ления)»10. Написанные в Праге и изданные в Берлине в 1936–1937 гг. в виде небольших брошюр, они буквально кричали миру о вандальной политике большевиков в отношении культурного наследия России, о том, что многих памятников древнерусского зодчества, описанных искусствоведами прошлого и настоящего, уже нет, и нужно как можно быстрее общими усилиями изменить данную, «совершенно небывалую, по темному невежеству своему», ситуацию, сохранить пока еще существующие исторические постройки, восстановить уже утраченные с целью «включения в культурно-историческую цепь вырванных из нее ценнейших звеньев», чтобы «снова заставить играть красками всю совокупность созданных прошлыми поколениями художественных форм»11.
П. Н. Савицкий, анализируя советские и зарубежные источники и отмечая, что «известия о разрушениях приходят со всех сторон», выражал глубокую озабоченность тем, что «русская общественность не отдает себе достаточного отчета в том разрушении России, как страны искусства, которое происходит на наших глазах», не видит, что «коммунистическая власть показала себя ожесточенным и ни перед чем не оста- навливающимся разрушителем ценнейших памятников истории материальной культуры» и «эстетического облика целых городов» — Архангельска, Великого Устюга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Петербурга, Москвы и т. д.12 Приводя «из многих примеров немногие», Савицкий писал: «Ведь Советский Союз есть страна небывалого. В то же время он — наследник одного из наибольших и одного из наиболее самостоятельных в мире художественных наследий. Значение этого наследия еще не оценено… Но раньше или позже оно станет ясным для всех. И тогда Советский Союз, если только он не разрушит своих памятников, может стать первой туристической страной мира. Ибо особую привлекательность имеет сочетание нового со старым: строительство нового мира на фоне великих памятников прошлого. И это сочетание должно реализоваться не только в Кремле, но повсюду, где есть к тому данные» — в провинциальной России, в Крыму, на Кавказе, за Каспием, — «без этого фона новое теряет свою новизну, страна становится «Иваном, непомнящим родства». Размах строительства должен сочетаться с пафосом бережения культурного наследства», однако «что же мы видим на самом деле?» — задавался вопросом Савицкий13.
Ответ был удручающим, причем не только применительно к памятникам русского зодчества, в отношении которых «Батыево разорение — сущие пустяки», но и отечественных музеев14. В результате складывалась «картина ожесточенного гонения на все, что есть ценного в историческом прошлом нации», и делался вывод о том, что «коммунистическая власть не смогла сберечь народное добро, перешедшее в ее руки»15. Отмечая, что «на большой процент оно было просто разворовано теми «хранителями», которым оно было поручено», Савицкий особенно негодовал по поводу массовой распродажи советским государством русских музейных ценностей, да еще по бросовой стоимости, ибо масштабы вывоза за границу предметов старины были настолько велики, что они буквально обрушили цены мирового антикварного рынка.
Для русских эмигрантов это была больная тема. Многие из них на родине в ходе большевистской конфискации и национализации лишились своих ценностей, и вот спустя короткое время они начали всплывать на Западе. Конечно, некоторые изгнанники смогли вывезти из России часть своих богатств. Так, Ф. Ф. Юсупов взял с собой уникальную жемчужину «Перегрина», причудливой формы алмаз «Голова барана», бриллианты «Султан Марокко» и «Полярная звезда», полотна Рембрандта «Портрет дамы со страусовым веером» и «Портрет господина с перчатками и в высокой шляпе», картину Серова «Князь Юсупов на белом коне» и прочие раритеты. Или другой пример с реликвиями Донского Войскового музея и Донского исторического архива, которые в 1920 г. были вывезены по указанию атамана А. П. Богаевского за границу: книги, коллекции казачьих знамен, оружие (сабли, булавы, насеки), портреты военачальников Войска Донского, ордена, медали, банковское золото и серебро, культовые предметы Старочеркасского и Новочеркасского соборов. Однако все вывезенные русскими беженцами ценности по своим объемам не шли ни в какое сравнение с количеством реквизированного и проданного коммунистами богатства.
Уже в феврале 1919 г. при Наркомате торговли и промышленности возникла Экспертная комиссия по отбору конфискованных художественных вещей для антикварного экспортного фонда во главе с М. Горьким и М. Ф. Андреевой, собравшая только за первые полтора года своей работы 120 тыс. предметов: картин, мебели, оружия, фарфора, ковров и т. д.16 2 марта 1920 г. В. И. Ленин потребовал от Совнаркома «войти в соглашение с НК государственного контроля и ВЧК о борьбе против укрывателей товаров и запасов, могущих служить, между прочим, фондом для вывоза за границу», после чего захват собственности приобрел колоссальные масшта-бы17. 13 июля 1920 г. к декрету «О реквизициях и конфискациях» СНК принял постановление «Об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей», затем 12 ноября 1921 г. СНК учредил особую «Комиссию по сосредоточению
-
16 Мосякин А. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № II (20). С. 32.
-
17 Ленин В. И. Проект постановления СНК по вопросу о товарном фонде. Полн. собр. соч. 5-е издание. Т. 54. М.: Изд-во политической литературы, 1983. С. 425.
и учету ценностей» во главе с членом Политбюро Л. Д. Троцким, предложившим реквизировать собственность не только светских, но и религиозных лиц и учреждений. А чтобы они не смогли ее вернуть, были изданы декреты «Об ограничении права истребования предметов домашнего обихода бывшими собственниками от их фактических владельцев» (16.03.1922) и «Об аннулировании претензий, вытекающих из реквизиции и конфискации благородных металлов и драгоценных камней» (11.10.1922).
Такая политика привела к тому, что к 1924 г. «в стране было изъято не менее 10 миллионов памятников истории и культуры и предметов бы-та»18. Одни лишь музейщики Москвы, по данным заведующей музейным отделом Нарком-проса Н. И. Троцкой, проэкспертировали «26000 пудов благородного металла. Музейных вещей было отобрано и вывезено в Оружейную палату 10000 предметов весом в 400 пудов»19. Значительная часть конфискованных богатств предназначалась к продаже за рубеж, поэтому Наркомат торговли и промышленности еще летом 1920 г. был преобразован в Наркомат внешней торговли. 7 февраля 1921 г. за подписью Ленина вышел декрет СНК «О составлении Государственного фонда ценностей для внешней торговли», предусматривавший образование местных экспертных комиссий по «отбору, классификации, оценке и учету могущих служить для экспорта предметов художественных и антикварно-исторических, а также предметов роскоши»; затем 30 декабря 1921 г. СНК издал декрет «О государственном экспертном фонде по филателии», который также создавался при Наркомате внешней торговле для продажи за рубеж20.
Все это позволило Наркомату внешней торговли 27 октября 1922 г. заключить с Армандом Хаммером договор о поставке в РСФСР пшеницы в обмен на пушнину, икру и предметы искусства Гохрана. Удача сделки с Хаммером привела к росту сбыта антиквариата за рубеж и переводу его на более высокий уровень. 22 марта 1923 г. Совет труда и обороны издал постановле-
-
18 Мосякин А. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № III (21). С. 40.
-
19 Троцкая Н. Музейное строительство и революция // Наука и искусство. 1926. № 1. С. 41.
-
20 Культура в нормативных актах Советской власти. 1917–1922. М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицин-форм»», 2009. С. 266–267, 321.
ние «О реализации государственного фонда художественных ценностей, находящегося в распоряжении органов Народного Комиссариата Внешней Торговли», которое обязывало Наркомат внешней торговли «немедленно приступить к передаче комиссии Совета Труда и Обороны по учету и реализации государственных фондов находящийся в ведении органов Народного Комиссариата Внешней Торговли в Москве и Петрограде государственный фонд художественных ценностей» с целью последующей его распродажи21. Наконец, в 1923 г. было создано общество «Международная книга», выпустившее в 1925–1927 гг. для мирового рынка каталоги антикварных книг XVIII–XIX вв. и «Редчайших книг и их современной расценки».
Наблюдая за всем этим и внимательно отслеживая информацию советской прессы, русская эмиграция пребывала в недоумении. Она уже почти смирилась с большевистской национализацией своих ценностей, но принять их тотальную распродажу за рубеж и лишение народа культурного достояния страны не могла. П. Н. Савицкий, изучив официальные данные советских органов власти и управления, а также статистические обзоры «Внешняя торговля СССР» за 1928–1935 годы, представил гнетущую картину продаж и вывоза из России ее историко-культурных ценностей: в 1928 г. через таможню на Запад ушло 49 тонн картин, гравюр и прочих предметов старины и искусства на сумму 654 тыс. золотых рублей, в 1929 г. — уже 219 тонн на сумму 5.573 тыс. зол. руб., в 1930 г. — 577 тонн, на сумму 7.835 тыс. зол. руб., в 1931 г. — 113 тонн на сумму 3.230 тыс. зол. руб., в 1932 г. — 74 тонны на сумму 1.153 тыс. зол. руб., в 1933 г. — 55 тонн на сумму 846 тыс. зол. руб.22
Назвав расточение советских музеев позором и утратой «культурно-исторического достоинства страны», особенно на фоне активного сноса архитектурных памятников и обезличивания древнерусских городов, П. Н. Савицкий утверждал: «Существует один способ загладить этот позор: не только немедленно прекратить разбазаривание, но и приступить к систематическим закупкам художественных произведений за границей, с целью планового пополнения музеев СССР »; также необходимо « сооружение вновь наиболее ценных из уничтоженных построек» с одновременной организацией «эффективной и широкой охраны зодческих памятников», их «инвентаризации и издания архитектурного наследства страны», для чего необходимо создать «Комиссию зодческого восстановленья»; и, наконец, последний тезис Савицкого — «ликвидаторы художественного наследия страны должны быть ликвидированы в кратчайший срок»26. Эти слова и их непререкаемый тон, были словно взяты с советских плакатов тридцатых годов, но П. Н. Савицкий говорил не о репрессиях, а о справедливом возмездии: «Но помните, что приговор ваш над названными выше и другими памятниками русского величия будет вашим приговором и над самими собой. Замысел ваш не удастся. Будущие поколения (а может быть, уже и наше) заклеймят проклятием ваши имена и отстроят вновь разрушенные вами памятники»27.
Список литературы Русское послереволюционное зарубежье о политике СССР в отношении культурного наследия России
- Культура в нормативных актах Советской власти. 1917-1922. М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ»», 2009. 384 с.
- Культура в нормативных актах Советской власти. 1923-1927. М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ»», 2010. 528 с.
- Ленин В. И. Проект постановления СНК по вопросу о товарном фонде. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 54. М.: Изд-во политической литературы, 1983. С. 425.
- Лукомский Г. К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева Х1-Х1Х веков. — Мюнхен: ОРХИС, 1923. 180 с.
- Мосякин А. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № II (20). С. 29-42.
- На путях. Утверждение евразийцев. Статьи П. Н. Савицкого, А. В. Карташёва, П. П. Сув-чинского, кн. Н. С. Трубецкого, Г. В. Флоровского, П. М. Бицилли/Обл. работы худ. П. Ф. Челищева. Берлин: Геликон, 1922. 358 с.
- Пархоменко Т. А. Немецкие издания 19201930 годов о русской эмиграции в Германии // Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 2 (33). С. 120-135.
- Россия и латинство. Статьи Бицилли П. М., Вернадского Г., Ильина В. Н. и др. Берлин: б. и., 1923. 220 с.
- Савицкий П. Н. Разрушающие свою Родину (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР). Берлин: Издание евразийцев; Druck Speer & Schrakft, 1936. 40 c.
- Савицкий П. Н. Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ (Разгром русского зодческого наследия и необходимость его восстановления). Берлин: Издание евразийцев; Druck Speer & Schrakft, 1937. 39 c.
- Троцкая Н. Музейное строительство и революция // Наука и искусство. 1926. № 1. С. 29-53.
- Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1925. 60 с.
- Юренева Т. Ю. Русская икона в музеях США // Культурное наследие России. 2017. № 2. С. 87-88.
- Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischer Zeit. -Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & co., 1932. 95 S.
- Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentume Moskau. Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & co., 1933. 135 S.
- Alpatov M., Brunov N. Geschichte der altrussischen Kunst. T.1-2. Augsburg; Baden bei Wien, 1932.
- Kondakow N. P. The Russian Icon. Т. 1-4. Oxford: Clarendon Press, 1927.
- Muratow P. L»ancienne peinture russe. Roma; Praha: A. Stock, 1925. — 181 P.; то же на ит. яз.: Mu-ratov P. La pittura russa antica. Roma; Praga, 1925; Muratov P. Les icones russes. — Paris: J. Schiffrin, Editions de la Pleiade, 1927. 266 с.
- Савицкий П. Н. Разрушающие свою Родину. С. 34-35, 39, 4.
- Савицкий П. Н. Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ. С. 39.