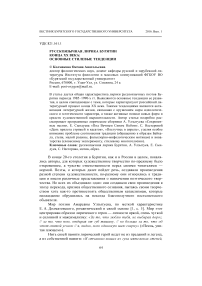Русскоязычная лирика Бурятии конца ХХ века: основные стилевые тенденции
Бесплатный доступ
В статье дается общая характеристика лирики русскоязычных поэтов Бурятии периода 1985-1990-х гг. Выявляются основные тенденции ее развития, в целом совпадающие с теми, которые характеризуют российский литературный процесс конца ХХ века. Такими тенденциями являются активизация литературной жизни, связанная с крушением норм идеологического и эстетического характера, а также активные поиски новых форм и средств художественной выразительности. Автор статьи подробно рассматривает программные лирические сборники А. Улзытуева «Сокровенные песни», Е. Сындуева «Под Вечным Синим Небом», С. Нестеровой «День прилета стрижей и касаток», «Постучись в апрель», уделяя особое внимание проблеме соотношения традиции (обращению к образам Байкала, степи, малой родины, фольклорно-мифологическим мотивам) и новаторства (словесному эксперименту, стилевому многоголосию).
Русскоязычная лирика бурятии, а. улзытуев, е. сындуев, с. нестерова, мотив, образ
Короткий адрес: https://sciup.org/148316438
IDR: 148316438 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Русскоязычная лирика Бурятии конца ХХ века: основные стилевые тенденции
В конце 20-го столетия в Бурятии, как и в России в целом, появлялись авторы, для которых художественное творчество по-прежнему было откровением, а чувство ответственности перед своими читателями — нормой. Поэты, о которых далее пойдет речь, создавали произведения разной степени художественности, по-разному они относились к традиции и имели различные представления о назначении поэтического творчества. Но всех их объединяло одно: они создавали свои произведения в эпоху перехода, кризиса общественного сознания, пытаясь своим творчеством хоть как-то противостоять общественным катаклизмам, которые неожиданно обрушились на некогда благополучного постсоветского обывателя.
Мир поэзии Амарсаны Улзытуева, по меткой характеристике Е. А. Долматовского, романтический в своей основе [1, c. 5]. Мир этот центрирован образом лирического героя — личности яркой, очень чуткой и склонной к максимализму: «За то, что люблю тебя, не выбирая дорог, // за то, что пою, отдирая от губ тишину, // но больше за то, что об этот святой уголок //я, видно, мою одинокую шею сверну» («Песнь, увитая плющом»).
Нить своей памяти лирический герой ведет не из преданий и легенд, а из собственной памяти: «Я отчаянно вышел из гула мятежных степей,
// где траву до земли подминает свобода, // где растет на неправду колючей управой репей // и, не прячась от солнца, живут золотые народы» («Нежная песнь планете»). Поэтому закономерно его обращение к образам степи и Байкала. Степь — один из лейтмотивных образов Улзытуева: «Степь тоски и гнедого пота, // степь тоски и немых саранок, // степь моей приглушенной раны // и табунной моей свободы» («Песнь о приснившейся боли»). А в образе бушующего Байкала воплощена максималистская, романтическая по сути, концепция творчества поэта: «А ночью, для тех, кто стоит берегами любезн, // как волны байкаловы рвут себя в клочья — //я выплесну бочья моих омулевых бездн, //я выхаркну с кровью мои многоточья» («Песнь в будущее, что напротив»).
С обращением к онтологически насыщенным образам и мотивам природного мира связан у автора поиск духовных основ бытия. Но мы не встретим у Улзытуева традиционной пейзажной лирики, банальных славословий в адрес малой родины поэта. Образы родной природы созданы Улзытуевым не через взгляд со стороны, а как бы изнутри. Можно сказать, что лирический герой не вычленяет себя из природного мира. Поэтому ему так легко почувствовать себя «могучим лосем» («Лосиная песня») или заболеть «одиночеством росинки» («Песнь о пронзительном чувстве»). Лирический герой приносит возлюбленной «чуткий букет своих рук» («Песнь о первом пробуждении»). А, расставаясь с нею, оставляет ей «вместо себя... небо»: «Глядя на светлое облако, // вспомнишь, быть может, // былое, // и за глаза мои примешь // стрижа» («Прощальная песня»).
Нужно сказать, что лирическое сознание поэта не изолировано в самом себе, а разомкнуто для диалога с другим сознанием, о чем говорит уже выбор жанровой формы стихотворений первого сборника поэта «Сокровенные песни» (1986). В песне интенционально предполагается «слушатель». Лирическому герою Улзытуева необходим адресат, будь то друг («Меркну... и ты не спасешь меня, друг.» — «Песнь о черном сентябре» ), возлюбленная («Я согласен с тобой, с твоими губами.» — «Песнь о беззащитном согласии») или даже вся Земля («Дорогая моя, сколько жизни еще предо мной.» — «Нежная песнь планете»).
Можно отметить, что лирика А. Улзытуева лишена четких социологических ориентиров; их заменяет стремление к широким, культурологически ориентированным формам эстетического сознания. Так, в стихотворениях поэта мы встретимся с Джульеттой («Песнь о тополином пухе»), «желтыми рыцарями солнц» («Песнь-наигрыш»), Летучим Голландцем («Песнь бережно, морин-хуром»), «близнецами из Сиама» («Песнь в будущее, что напротив»). Приметы современного социума у Улзытуева обнаруживаются лишь в урбанистических мотивах. Но и в них подробности городского пейзажа фокусируются во внутреннем мире лирического героя: «Ты помнишь тополь — весь белый-белый, // взмывавший в небо высокой кроной, // быть может, пухом его был соткан // балкон высокий — и ты там пела» («Песнь о тополином пухе»); «Забудем. и целой жизни // для ночи такой не хватит! // Лишь кровь полнолунья брызнет // на вытоптанном асфальте» («Песнь о нахлынувшей луне»); «И может быть по улицам вопит весна, // и тщетно дворник собирает солнце.» («Песнь беспомощности»), «Не спеша проходить мимо ветра и зданий. Где-то там позвоночник сдавили балконы» («Песнь терпеливости...»).
Лирику другого поэта постперестроечной Бурятии, Есугея Сындуе-ва, напротив, отличает стремление к совмещению элитарного кода поэтического языка и массового языка повседневности. Ср.: «Без тебя мне сахар горек, // Воздух — едкий смог, // Взгляд твой даже дым попоек // Мне затмить не мог»; «Полярная звезда — ось мирозданья. // Насколько эта ось хрупка, аж жуть.» («Полярная звезда — ось мирозданья...»). Этой установкой, по всей видимости, объясняется тяготение лирики поэта к сюжетности, являющейся для него своеобразным способом рефлексии. Вот перед читателем яркая картина поединка и награждения борца Бориса Будаева («Борцовская слава»), а вот бурлескная история о визите к подгулявшему поэту булгаковских Бегемота и Понтия («Один заблудший сын великого поэта…»). Встречаются у Сындуева и отнюдь не «поэтичные» сюжеты, как, например, в стихотворении «Полмира прошедший с боями…», рассказывающем о ветеране, который «выискивает на обед» в мусорном контейнере.
Вообще социально-актуальная проблематика у Сындуева четко отражает концепцию творчества поэта — служить обществу. Поэтому особым кощунством, по Сындуеву, является использование своего поэтического дара с целью самоутверждения, удовлетворения личных амбиций: «Дар божий делать средством // Шокировать весь свет. // Себе своим кокетством // Передавать привет» («Не для каприза эта...»). В большинстве стихотворений явственно проглядывает личный и, главное, социальный опыт автора, которого беспокоит духовная пустота, образовавшаяся в результате потери прежних нравственных ориентиров. Ораторское начало некоторых строк подчеркивает неравнодушие автора к происходящему в России: «Страна огромная в тартарары летит. // Кричу ей: «Брось напрасные надежды, // Что поутихнет вдруг плебейский аппетит // Тех, кто украл патрициев одежды!»
Пытаясь найти некий духовный стержень в бытии своих современников, поэт обращается к национальному сознанию, дающему новые возможности миропонимания: «Где облака — как в скирдах хлопок, // Где небо распахнулось голубо, //Деревья толпами к вершинам сопок // Взбираются, как предки на обо». Оригинально обрабатывает Сындуев бурят- скую легенду о полосатом бурундуке, «обласканном» медведем («Оттого бурундук полосат…»). Однако центром национальной картины мира у поэта остается традиционный для лирики Бурятии образ Байкала: «А ныне, в ранг святыни вознесенный, // Каких на всей Земле наперечет, // Байкал, патриархальностью спасенный, // Нас всех от одичания спасет» («А может, феодальная отсталость…»).
Расширение художественного пространства у Сындуева осуществляется и за счет введения религиозного контекста — буддизма. При этом в буддизме современному автору интересна не столько визионерно-созерцательная, сколько морально-этическая его сторона. Эпиграфом к сборнику «Под Вечным Синим Небом» (1997) являются слова Будды, избранные автором своим жизненным кредо: «Тьму и зло победить невозможно. Тьма непобедима. Несите свет». Бог «дарит милость эту, // Уметь стихи слагать. // Поэтому поэту // Никак нельзя солгать» («Не для каприза эта…»).
Создавая свои произведения в русле традиции, Е. Сындуев не всегда успешно справляется с обличением своих мыслей в классические для традиционной лирики формы. Не вполне оправданным в некоторых случаях выглядит внедрение в художественный дискурс грубой материи разговорно-просторечного языка: Ср.: «Смерть — горизонт, // Он для живущих, // Для тех, кто в этой жизни гость… // Не ощутили даже мига, // Когда черта пересеклась. // Коль так, тогда какого фига — // Не жить, а смерти ждать, трясясь» («Смерть — горизонт…»). Также неудачен enjambement «Нашим борцам Европа тесна, // Для них невозможного нету. // И вот Будаев берет и на // Туше бросает планету» («Борцовская слава») и др.
Литературная жизнь постперестроечной России характеризуется появлением так называемой «гендерной» литературы — прозы и поэзии, созданной авторами-женщинами, изображающими действительность через призму именно женского мировидения. В поэзии Бурятии наиболее заметными явлениями становится лирика Н. Красниковой, Л. Олзоевой, С. Нестеровой.
Ко времени публикации своих первых поэтических сборников Светлана Нестерова была известна читателю как писатель-очеркист и автор книги сказок для детей. Мы подробно рассмотрим два ее поэтических сборника — «День прилета стрижей и касаток» (1994) и «Постучись в апрель» (1999). Эти книги открывают очередную грань женской судьбы — творческой и обычной, с узнаваемыми деталями быта, с тревогой за несовершенство окружающего мира и человеческих отношений. Как отмечал Р. Шойморданов, «стихам С. Нестеровой присуща острая социальность, гражданственность, четкость авторского отношения к явлениям Бытия <…> нравственным стержнем всего ее творчества является сострадание и совесть» [2, с. 4]. В ее строках «Мы без земли сироты. А она без нас?» («Земля родит нас…») уловлен общий пафос литературы ХХ века, утвердившей приоритет личности над государством, когда лириче- ский герой может сказать: «Я твой капиллярный сосудик, Россия. // Мне больно когда, тебе больно, Россия» (А. Вознесенский).
Основная тема поэзии С. Нестеровой — поиск лирической героиней собственной идентичности. В первом сборнике душевный мир героини показан гармоничным и самоценным. Лирическое «Я» организовано в триаду «женщина — я — мать». Духовный мир заполнен образами любимого — «ты» и «родного» — «мама», «папа», «березы», «луга», «чайка», «дом». При этом пространства «я-женщина» — «мать» и «я-мать» — «родные» почти зеркальны. Их основное свойство — двуполярность. Но крайности как бы уравновешивают друг друга. Так, «отрицательный» полюс «мира женщины» — это мотив «боли» («Но тебя отдаю я воле, // А сама остаюсь я с болью»), «одиночества» («Все бродит она с одиночеством в паре» ), тревожной любви. Но отрицательные эмоции снимает положительное, светлое начало, возникающее в мотиве «чуда» («Великое чудо — любовь» и «чудо — это ты»), в образном ряде «дорога, мост, надежда, солнце, ты».
Так же и пространство «я-мать» — «родные» организовано дихото-мично. С одной стороны — трагические строки, посвященные вдовам и сиротам «жестокой и мерзкой» войны, погибшему отцу. С другой — «дивный мир согласья», «край, где вечно мама ждет» — образы, создающие ощущение надежности, стабильности этого мира.
Оба пространства пересекаются в точке «я», где лирическая героиня уже выступает с позиций гражданина, например, в таких стихотворениях, как «В стране беспредел», «Армения». Но и здесь она остается женщиной, ведь первый образ, возникающий в ее сознании, когда она описывает землетрясение в Армении — это руины школы.
Кроме того, оба мира лирической героини объединены мотивом любви, в которой и должна реализовать себя женщина: «И женщина тоже // Пришла для любви», «В любви моей, в любви к земле // Нашла я женское начало».
В самоидентификации — «обретении себя» — с любимым ли человеком или с родной землей (в более традиционной для русского менталитета «патриархальной естественности» — стихотворение «Родная сторона, меня прими…»), лирическая героиня, в конечном счете, ищет гармонию внешнего и внутреннего миров — слов и мыслей, как в стихотворении «Говорим мы порою не то, что хотим…». Эта проблема — соответствия внешнего внутреннему как будто чрезвычайно трудно разрешимая. Отсюда и слова: «Если вдруг, среди дня, //Загорится звезда, то пойми ее жажду!» Однако гармония достижима, поскольку самая яркая звезда — солнце — светит именно днем.
С поиском гармонии связаны мотивы середины и круга. Сборник «Постучись в апрель» открывается стихотворением «Я постучусь в апрель». Почему именно в «апрель»? Только ли это символ весеннего обновления? (В русской поэзии эта символика традиционно закреплена за маем). У С. Нестеровой апрель, скорее всего, символ середины жизненного пути. В пользу такой трактовки говорит и следующее стихотворение сборника — «Весна», где март представлен «юношей невинным». Эти два стихотворения показательны в плане переосмысления сквозной метафоры «жизнь — времена года» в метафору «времена года — состояния человека». Например, зима — это одиночество.
Лирическая героиня оглядывается назад, осмысляет свою жизнь, но без пессимизма — спокойно и уверенно: «не жалко мне, что время пролетело», «Не пытай меня на верность, // Я верна себе».
Лирическая героиня ощущает ценность каждого мгновения жизни. Так, в стихотворении «Я постучусь апрель…» уже задается «хронотоп мгновения» — происходит «сужение» времени: «река времен» — «день» — «миг» и «расширение» пространства: «сад» — «путь» — «пашня жизни». Возникает острое «чувство жизни», радости от своего существования. Для лирической героини важен именно миг первой встречи, когда «замирает мир на перекрестках» («Нежданная встреча») или миг своего единения с природой: «слиться (с жаворонками) и замереть на миг» («Все цветы луговые…»). Миг — ощущение полноты жизни, а бег времени рождает тревогу, как в стихотворении: «Время бежит невольно, // Не замыкаясь в миг».
В стихотворении «Все цветы луговые…» — особая символика круга. В психологии выбор круга среди других геометрических фигур означает гармоничную, цельную личность. Для С. Нестеровой движение по кругу — не безысходность, а стабильность: «Все, замыкаясь кругом, // Все же идет вперед» . И в стихотворении «Пусть ты сгорел в огне своих страданий…» «замкнутый круг» не несет негативной коннотации, т. к. любимый вновь возвращается к лирической героине.
В поиске гармонии каждый человек неизбежно обращается к Богу. Религиозные мотивы мы встречаем и у С. Нестеровой. Здесь и буддийская символика, возможно, как дань «геополитическому положению» («Мы будем жить когда–то снова») или «Возродится душа моя снова» — момент реинкарнации); и христианские мотивы. Так, в стихотворении «Я в пустоту протягиваю руки…» образ России осмыслен вполне традиционно для русской поэзии ХIХ — серебряного веков как Православной, что отражено в выборе соответствующей лексики: «откровенье», «Назарет», «творенье», «миряне», «животрепетанье». Но в стихотворении «Откровенье» путь к Богу представлен не как «духовное трудничество», а слишком предметно: «Мне бы в горы высокие». Бог лирической героини не христианский и не буддийский, а свой собственный, тот, которого она носит а себе: «Присягаю я Богу, // Присягаю себе».
Итак, в поэзии трех рассмотренных нами очень разных авторов — Амарсаны Улзытуева, Есугея Сындуева и Светланы Нестеровой можно выделить общие черты, раскрывающие основные стилевые тенденции и закономерности в русскоязычной лирике Бурятии 1985–1990-х гг. На наш взгляд, таковыми являются:
-
1) использование традиционной для литературы Бурятии образности (Байкал, степь, малая родина) говорит о непрерывности литературного процесса;
-
2) бурятские поэты на первый план выдвигают категорию нации и национального (от лирических зарисовок о малой родине — до обращения к фольклорно-мифологической и религиозной — буддийской и христианской мотивике);
-
3) расширение художественного пространства происходит за счет введения различных культурных языков (от жаргона — до стилистики духовной поэзии);
-
4) серьезность и ответственность слова поэты Бурятии 1985–1990-х гг. понимают как тяготение к морально-авторитетной традиции, отсюда и внедрение в поэзию дидактизма, ораторского и публицистического начал;
-
5) в целом же анализ русскоязычной поэзии постперестроечной Бурятии говорит о единстве личности поэта и его эпохи — эпохи «меж веком двадцатым и веком напротив» (А. Улзытуев).
Список литературы Русскоязычная лирика Бурятии конца ХХ века: основные стилевые тенденции
- Долматовский Е. Мир в романтическом фокусе // Улзытуев В. Сокровенные песни: стихи. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. - С. 5-6.
- Шойморданов Р. Превыше всего - человек и любовь / С.А. Нестерова. Постучись в апрель: стихи. - Улан-Удэ: Наран, 1999. - С. 3-5.
- Улзытуев А. Сокровенные песни: стихи. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. - 40 с.
- Сындуев Е. Под Вечным Синим Небом: стихи. - Улан-Удэ: Священный Байкал, 1997. - 80 с.
- Нестерова С. День прилета стрижей и касаток: стихи. - Улан-Удэ: Наран, 1994. - 95 с.
- Нестерова С. Постучись в апрель: стихи. - Улан-Удэ: Наран, 1999. - 110 с.