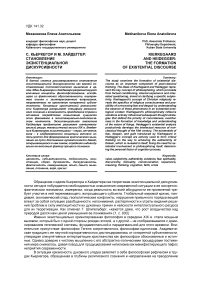С. Кьеркегор и М. Хайдеггер: становление экзистенциальной дискурсивности
Автор: Механикова Елена Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается становление экзистенциальной дискурсивности как важной составляющей постклассического мышления в целом. Идеи Кьеркегора и Хайдеггера репрезентируют ключевые концепты философствования, исходящего из фактической обусловленности, внутреннего опыта и заинтересованного вопрошания, направленного на прояснение конкретной субъективности. Концепция христианской религиозности Кьеркегора раскрывает специфику религиозного сознания и возможность преодоления страха и отчаяния посредством осмысления сущности этих феноменов в экзистенциально-онтологическом контексте. Экзистенциальная аналитика Хайдеггера продуктивно развивает интеллектуальный ресурс неклассической мысли XIX в. Введенные Кьеркегором экзистенциалы - страх, от чаяние, вина - в хайдеггеровской концепции активно используются для формирования критического мышления на пути достижения аутентичности Dasein, открывающегося в нем самом, определяя индивидуально-личностный фактор процесса познания.
Ценность, субъективность, подлинность, экзистенция, страх, духовность, дискурсивность, фактичность, коммуникация, опыт, смысл, мышление, познание, вера, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/149134174
IDR: 149134174 | УДК: 141.32 | DOI: 10.24158/fik.2021.4.3
Текст научной статьи С. Кьеркегор и М. Хайдеггер: становление экзистенциальной дискурсивности
Обращение к идеям Кьеркегора и Хайдеггера как теоретикам экзистенциальной дискурсив-ности сегодня побуждается необходимостью осмысления современной ситуации в ее конкретнофактическом понимании, измерении, когда реальность во всей абсурдности ее проявлений требует участия в ней переживающего, вопрошающего субъекта. Глобальный мировой кризис, пандемия, экономический спад, геополитические конфликты, нарушение привычного порядка вещей влекут за собой ситуацию разобщенности, непонимания, растерянности и утраты видения решения проблем в силу имплицитности их духовных причин и неясности интеллектуального ресурса для их теоретизации. Как отмечал Г. Шпигельберг, «кажется даже, что рост владычества над природой дался нам ценой уменьшения ее понимания» [1, с. 930].
Именно экзистенциально ориентированная философия в середине XIX в. стала мощным вызовом, который был с одной стороны рожден эпохой, а с другой – не сообразовывался с доминированием гегелевской системы, фундаментальной и парадигмальной для этого времени. Влиятельное присутствие философии Гегеля сопротивлялось философам-одиночкам. Академическая традиция с ее научной корпоративностью дистанцировалась от конкретной субъективности, утверждая спекулятивные интерпретации христианства как философски обоснованные и истинные. Однако доверие к чистому мышлению с его абстрактно-логическими процедурами постижения мира снижалось, давая повод для продуцирования нигилизма как манифестирующего пафос неприятия современности.
В ситуации кризисности, духовного упадка заявляет о себе философская рефлексия в трудах Кьеркегора, обращенная в глубины религиозного сознания и направленная на преодоление страха и отчаяния посредством раскрытия и осмысления природы этих феноменов в экзистенциально-онтологическом контексте. Его концепция христианской религиозности формируется в условиях активной индустриализации, высокотехнологического становления Запада, когда обостряется трагическое мировосприятие, усиливается внимание к субъективному опыту переживания человеком своей смертности. Как отмечает С. Исаев, Кьеркегор «стремился связать религиозную веру как раз теми формами человеческого духа, которые оказались как бы вынесенными за скобки логической модели религиозности» [2, с. 83].
В философии религии Гегеля Кьеркегор видит полное непонимание сущности религиозности, восходящей к внутреннему, индивидуальному опыту верующего, в котором актуализируются особенности человеческого духа, негативно оценивавшиеся в логической модели познания Бога. Мыслитель настаивает на необходимости преодоления самонадеянности, самоуспокоенности, последовательно приобретенных субъектом на пути к постижению истины в системе абсолютного идеализма, указывая на уникальное движение веры и осознание отсутствия самодостаточности человека как необходимое условие для обретения экзистенциальной полноты осуществления себя. Согласно Кьеркегору, понимание религии как рационального феномена, а мышления как наивысшей способности постижения Бога вступает в противоречие с фундаментальным положением христианства об ограниченности человеческих возможностей в преодолении дистанции между Богом и человеком.
Проблематизация иррационального и формирование неклассического типа мышления в европейской философии во многом были связаны с идеями Кьеркегора, эксплицирующими те чувственно-эмоциональные моменты, которые максимально проявляются в ситуациях, выбрасывающих человека из обыденного успокоенного существования в повседневности. Если сегодняшнее ощущение страха и тревоги человек инстинктивно воспринимает как выход из зоны комфорта, проявление растерянности перед нарушением привычного порядка вещей, то для Кьеркегора страх перед неясностью происходящего имеет метафизические основания и экзистенциальную природу, имманентную его духовной сущности.
В контексте христианской религиозности философ определяет страх не как негативное переживание, а как «возможность любой конкретности», первое проявление духа и плодотворное состояние на пути к спасению. Анализируя двусмысленную природу страха в работах Кьеркегора, П. Гайденко отмечает, что «первая форма самопереживания духа (ибо это еще нельзя назвать самосознанием), есть таким образом страх» [3, с. 237]. Страх как духовный феномен выступает предпосылкой свободы, в то время как бездуховность губительна для человека, является причиной смыслоутраты и непреодолимого отчаяния.
Понятие страха у Кьеркегора постепенно оформляется в основополагающий экзистенциал, раскрывающий многогранную природу человека и саму возможность его совершенствования в рамках религиозного сознания. Он вскрывает различные аспекты проявления страха как многозначного, порой амбивалентного феномена, рассматривая его в контексте рефлексии беспокойного самосознания в экзистенциальной диалектике. Страх, смятение, неудовлетворенность сигнализируют о кризисности сознания и внутренней противоречивости жизненной ситуации, требующей осмысления и эмоционально-волевого решения.
По Кьеркегору, страх и отчаяние во многом могут стать импульсом к избавлению от разумных доводов и осуществлению абсолютно иррационального акта веры, снимающего ограничения конечного сознания и дающего возможность бесконечного становления и спасения в вечности. «Страх – это возможность свободы, только такой страх абсолютно воспитывает силой веры, поскольку он пожирает все конечное и обнаруживает всю его обманчивость» [4, с. 242]. Таким образом, преодоление на первый взгляд негативных состояний, по Кьеркегору, возможно лишь религиозно на пути обращенности к трансцендентному божественному началу. Страх, отчаяние рассматриваются философом как аутентичные формы, движущая сила религиозного сознания, признак совершенства человеческой природы.
Страх – экзистенциально-онтологическая характеристика самого человека, в нем он имеет возможность соприкоснуться с глубиной своего существования, конечностью. Проведенное именно Кьеркегором разграничение страха-тоски как метафизического феномена, не имеющего предметной обращенности, и страха-боязни как эмпирического определенного состояния закладывает основания экзистенциальной дискурсивности, определяя основные векторы философской рефлексии, направленной на осмысление человеческого существования.
Фиксируя неспособность модели жесткого рационализма отвечать интеллектуальным, духовным запросам времени, Кьеркегор создает нарратив экзистенциального вопрошания, выводящий автора и читающего на уровень смысловой передачи через сообщение, требующее определенной настройки в направлении понимания парадоксальности самого акта веры и возможности мыслительной деятельности в режиме интенсивного переживания связи человеческого Я с Абсолютом.
Тем самым определяются экзистенциальные значимости философствования, предполагающие не закрытую рациональность со всеобщими понятиями, а вдумчивое размышление, исходящее из внутренней заинтересованности вопрошающего и самой бесконечной бытийной открытости.
Экзистенциальный канон и определенные концептуальные решения, заложенные Кьеркегором в его произведениях, активно повлияли на последующие мыслительные стратегии, отстаивающие приоритет фактичности, конкретности, событийности при формировании знания и понимания природы вещей. Так, М. Хайдеггер продуктивно использует экзистенциально ориентированный интеллектуальный ресурс, заявивший о себе в постклассической философии XIX в., для осмысления онтологической проблематики и оформления экзистенциальной аналитики с ее основополагающим концептом Dasein. Как отмечает И. Инишев, «философствование у Хайдеггера “локализуется” между двумя противоположными возможностями: между философствованием как “способом изначального исполнения жизни” и философствованием как институцией» [5, с. 72].
Введенные Кьеркегором экзистенциалы – страх, отчаяние, вина – в хайдеггеровской аналитике активно используются для формирования критического мышления на пути достижения аутентичного Dasein как открывающегося через нас самих, закрепляя необходимость экзистенциальной приобщенности в самом философствовании, определяя индивидуально-личностную окрашенность познавательного процесса, в котором важно, «что мы делаем, из-за чего мы страдаем, с чем мы сталкиваемся, что склоняет нас к депрессии или приводит в восторг» [6, S. 13]. Так, рассматривая жизнь в ее временном измерении как определенную повествовательную структуру в длящемся процессе самопостроения и самосозидания, Хайдеггер использует амбивалентность понятия страха и его многочисленные коннотации в контексте определения возможностей осуществления Dasein в его аутентичности, сама «способность быть» противостоит готовой, конкретной модели существования в соответствии с заранее определенной сущностью.
Феномен страха в экзистенциальной аналитике используется для раскрытия онтологической динамики падения Dasein. Именно падение, обусловленное страхом, у Хайдеггера приобретает характер бегства, «отшатывание падения основано скорее в ужасе, который со своей стороны впервые делает возможным страх» [7, с. 186]. Таким образом, самоотчуждение Dasein во многом обусловлено отсутствием решимости брать ответственность за собственную экзистенцию, реализуясь как успокоение и результат страха осознания собственной конечности. Преодоление страха как онтологически определяемой эмоции в отличие от боязни как чувства, имеющего предметную направленность, возможно посредством мужественного осмысления и принятия собственной смерти на уровне сознания как источника смыслополагания и ценностного критерия для определения значимости событий. «Бытие-к-смерти» выступает у Хайдеггера как модус, конституирующий бытийную целостность, завершенность и возможность аутентичного существования.
У Кьеркегора экзистенция определялась как место раскрытия божественного в человеке, но и у Хайдеггера это определенный topos «выговаривания бытия», некая возможность определения существа человека, его онтологической укорененности, экзистирование в какой-то мере выступает синонимом человечности. Экзистенциальная настроенность в хайдеггеровском дискурсе есть одновременно и предпосылка формирования самого мира, продуцирование знания, дающего возможность осуществления бытия. Как отмечает Дж. Ваттимо, «Хайдеггер отвергает метафизическое понимание бытия – как чего-то объективного, неизменного структурированного – только во имя опыта свободы: если мы существуем в качестве проектов, надежд, предположений, страхов, то есть как существа конечные, но при этом обладающие прошлым и будущим, как существа, которые не являются всего лишь видимостями, то в этом случае бытие уже не может мыслиться в категориях объективистской метафизики» [8, с. 8].
Хайдеггер возвращает философию к изначальному необходимому состоянию экзистенциального напряжения между познающим и истинно сущим, раскрывая внутренние ресурсы, содержащиеся в языке для выражения смысловых репрезентаций бытийной «сокрытости», определяя трансцендентально-онтологические основания понимания, фундированные в заинтересованном вопрошании мыслящего субъекта. Миру тоталитарно организованного пространства с технологическим триумфом «поставляющего» производства Хайдеггер противопоставляет «четверицу», воплощающую архаическую структуру мирового целого, очерчивая конфигурацию современного проблемного поля философии, в котором экзистенциально ориентированное мировоззрение способно через осознание утраты референциальной соотнесенности c вещами и факта забвения бытия предостеречь от последствий мирового господства техники, сохранив духовно ориентированного человека со смыслообразующей онтологической определенностью.
Ссылки:
-
1. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. М., 2002. 680 с.
-
2. Исаев С.А. Теология смерти. Очерки протестантского модернизма. М., 1991. 236 с.
-
3. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. М., 1997. 495 с.
-
4. Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 383 с.
-
5. Инишев И. Феноменология как экзистенциальная практика: об одном мотиве в философии Хайдеггера // Ежегодник по феноменологической философии РГГУ, 2008. С. 62–79.
-
6. Heidegger M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion // M. Heidegger Gesamtausgabe. Bd.60. Phänomenologie des religiosen Lebens. Frankfurt a/M, 1995. S. 13.
-
7. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 452 с.
-
8. Ваттимо Дж. После христианства. М., 2007. 160 с.
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы С. Кьеркегор и М. Хайдеггер: становление экзистенциальной дискурсивности
- Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. М., 2002. 680 с.
- Исаев С.А. Теология смерти. Очерки протестантского модернизма. М., 1991. 236 с.
- Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. М., 1997. 495 с.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 383 с.
- Инишев И. Феноменология как экзистенциальная практика: об одном мотиве в философии Хайдеггера // Ежегодник по феноменологической философии РГГУ, 2008. С. 62-79.
- Heidegger M. Einleitung in die Phanomenologie der Religion // M. Heidegger Gesamtausgabe. Bd.60. Phanomenologie des religiosen Lebens. Frankfurt a/M, 1995. S. 13.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 452 с.
- Ваттимо Дж. После христианства. М., 2007. 160 с.