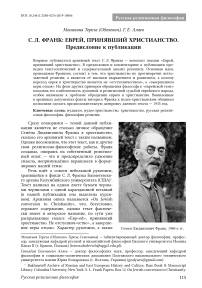С. Л. Франк: еврей, принявший христианство. Предисловие к публикации
Автор: Оболевич Тереза Семеновна, Геннадий Евгеньевич Аляев
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Русская религиозная философия
Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Впервые публикуется архивный текст С. Л. Франка — конспект лекции «Еврей, принявший христианство». В предисловии и комментариях к публикации проведен текстологический и содержательный анализ рукописи. Основная идея, проводимая Франком, состоит в том, что христианство не противоречит ветхозаветной религии, а является её высшим выражением и развитием, а потому переход еврея в христианство является не «отступничеством», а «завершением веры отцов». На фоне других примеров обращения философа к «еврейской теме» показана его озабоченность духовной и религиозной судьбой еврейского народа, особое внимание к проблеме обращения евреев в христианство. Выявленные в архивных документах факты интереса Франка к иудее-христианским общинам позволили сделать предположительную датировку данного текста — 1935 год.
Иудаизм, иудее-христианство, христианство, русская религиозная философия, философия религии
Короткий адрес: https://sciup.org/140240254
IDR: 140240254 | DOI: 10.24411/2588-0276-2019-10006
Текст научной статьи С. Л. Франк: еврей, принявший христианство. Предисловие к публикации
Сразу оговоримся — темой данной публикации является не столько личное обращение Семёна Людвиговича Франка в христианство, сколько его архивный текст с таким названием. Однако несомненно, что этот текст, как и другие свои религиозно-философские работы, Франк создавал, опираясь на собственный религиозный опыт, — это и предопределило удвоение смысла, непринуждённо вкравшееся в формулировку нашей темы.
Речь идёт о совсем небольшой рукописи, хранящейся в фонде С. Л. Франка Бахметевско-го архива Колумбийского университета (США)1. Текст написан на одном листе бумаги черными чернилами с одной карандашной вставкой (в нашей публикации она выделена курсивом). Архивная опись называется «On Jewish conversion to Christianity», что, безусловно, отражает содержание, однако текст фактически имеет и авторское название, по сути уже раскрывающее смысл: «Евр<ей>, принявший христианство. Не отступнич<ество>, а завершение веры отцов». Характер рукописи, а также
Семен Людвигович Франк, 1940-е гг.
авторское пояснение — «не прозелитизм, а беседа», — указывают, что мы имеем дело с конспектом выступления, изначально планировавшегося не для большой аудитории, а как доверительная беседа в не слишком широком кругу с возможностью взаимного общения. Ни автором, ни составителями архива текст, к сожалению, не датирован.
Основной мыслью текста Франка является то, что христианство не противоречит ветхозаветной религии, как это часто считается, а является её высшим выражением и развитием, а потому переход еврея в христианство является не «отступничеством», а «завершением веры отцов». Чудо христианства — т. е., Боговоплощение, — является высшим выражением чуда как такового — «как живого вмешательства Бога», — в том числе, и чудес ветхозаветных; Евхаристия является развитием иудейского жертвоприношения; пришествие Христа соответствует ветхозаветным пророчествам о пришествии религиозного Мессии. Впрочем, как бы выводя непосредственно христианство из иудаизма, Франк при этом различает «пророческое религиозное сознание», высшим выражением которого представлял своё откровение сам Христос, и религиозное развитие иудейского народа, которое, по мнению философа, уже на момент пришествия Христа характеризовалось «окостенением». Здесь и формулируются «глубокие духовные мотивы», помешавшие в своё время иудеям принять Христа, и точно так же мешающие еврею современному принять христианство. Во-первых, это ожидание Мессии не только как религиозного, но и как политического вождя и освободителя, чего евреи не увидели в Христе. Франк доказывает, что такое представление — т. е., ожидание от Мессии земных благ — противоречит иудейским же пророчествам (например, Исайи) о «страдающем, казненном и воскресшем Мессии» Современное проявление такого «извращенного пророческого духа» Франк усматривает в атеистическом социализме — «самочинном созидании Царства Божия». В этом смысле неизбежное для Франка крушение социализма будет иметь не только историческое, но и религиозное значение (к сожалению, никак при этом не раскрыт тезис о «месте и возможной роли еврейства»). Во-вторых, это боязнь потерять идею национального призвания, национальной миссии — поскольку Христос обращается не только к евреям, а ко всему человечеству. По мнению Франка, такая боязнь приводит лишь к трансформации религиозно-мессианского национализма — который, очевидно, оправдан, но лишь как призвание еврейского народа дать миру новый завет, Христа, — в национализм безрелигиозный, в «нелепость светского сионизма». Наконец, в-третьих, — страх идолопоклонства, т. е. обожествления человека, или антропоморфизма Бога («Сын Божий»). Борьба с идолопоклонством, как считает философ, может иметь разное значение и последствия — при живой вере она необходима; когда же вера уже характеризуется «окостенением», такая борьба лишь усиливает неверие. Это неверие «облегчается» идеей абсолютной трансцендентности Бога, не допускающей Боговоплощения. Таким образом, «религиозные мотивы», мешающие принять христианство, в конечном счёте, сводятся к безверию, к скептицизму по отношению к живой религии. Единство иудаизма и христианства Франк видит как единство религии пророчества и религии откровения. Мыслитель не только не усматривает противоречия или непоследовательности в том, чтобы быть евреем и христианином, но и считает принятие Христа окончательным проявлением ветхозаветной веры, противопоставляя друг другу не иудаизм и христианство, а веру и неверие. Имея в виду упоминание в этом тексте Вл. Соловьёва, можно отметить, что Франк фактически развивает мысль своего предшественника: «Мы должны быть едино с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства, и иудеи должны быть едино с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного иудейства»2.
В творческой эволюции С. Л. Франка есть немало страниц, которые до сих пор остаются мало «расшифрованными» и изученными. Одной из них является история обращения еврейского по происхождению мыслителя в христианство — события, которое сразу же вызвало как восхищение, так и недоумение даже среди его близких друзей. Франк крестился в православной Церкви в достаточно зрелом возрасте 35-ти лет, будучи уже признанным мыслителем и преподавателем. И хотя современники и позднейшие исследователи спорили, что именно стало решающим внешним импульсом для столь важного шага и почему крещение состоялось именно в 1912 году (а не раньше, хотя основания были хотя бы в связи с женитьбой на православной христианке Татьяне Барцевой еще в 1908 г.), не подлежит сомнению, что основным внутренним мотивом принятия крещения являлась для Франка глубокая вера и личный опыт встречи со Христом.
Сам философ относился к этому факту своей биографии с присущим ему спокойствием и не считал его чем-то необычным и достойным внимания. В письме к сыну Виктору от 21 июля 1945 г. Франк писал: «Только что получил мою “биографию”, спешу отправить назад с короткими спешными поправками (…). Чисто интимно-личные данные — еврейское происхождение, крещение и пр. — надо бы вычеркнуть; это широкому кругу читателей неинтересно и ненужно»3. Нет этих данных и в другой, собственноручно написанной Франком в 30-е годы автобиографии, — правда, в ней содержится упоминание о том, что философ был отстранён от преподавания в Берлинском университете в 1933 г. «очевидно, в силу неарийского происхождения»4. Франк не отрекался от своего еврейского происхождения, рассматривая крещение как исполнение Ветхого Завета: «Мое христианство я всегда сознавал, как наслоение на ветхозаветной основе, как естественное развитие религиозной жизни своего детства»5. Эту черту самосознания Франка точно уловила М. И. Лот-Бородина, написав в своём воспоминании: «Для него, родного сына народа Мессии, дар веры был кровным наследием, а в постепенном проникновении и созерцании “духа истины” Новый Завет становился собственным личным достоянием, вытекая из самых недр ветхозаветного Израиля; ибо все библейское откровение — единый золотой самородок»6. Впрочем, этим отнюдь не затушёвывалось понимание Франком принципиальной разницы между христианским и еврейским мировосприятием — так, он писал сыну: «Я считаю <…> мою интуицию непреодолимого дуализма между “міром” и “царством Божиим” <…> истинно христианской, т. е. подлинно христианским преодолением еврейского земного мессианизма»7.
Между тем, философ неоднократно обращался к «еврейской» — в широком смысле этого слова — тематике8. В его письмах встречаются упоминания о том, что сын Виктор «очень интересно и верно» пишет о евреях9 и что «без евреев нигде не обойтись, и с ними не пропадешь»10. Самой актуальной и важной проблемой для философа оставался вопрос об обращении евреев в христианство в современном ему мире, особенно — в условиях господства атеистической идеологии в Советской России и антисемитизма в нацистской Германии. Свидетельство тому — анонимно опубликованная в 1934 г. в немецком журнале «Eine heilige Kirche» («Святая Церковь») статья «Religiöse Tragödie des Judentums» («Религиозная трагедия еврейского наро-да»)11. Журнал издавался лютеранским епископом Фридрихом Хайлером (Friedrich Heiler), с которым Франк поддерживал отношения, и который был посредником в его переговорах с католическим издательством Anton Pustet по поводу издания немецкого оригинала книги «Непостижимое». Для этого же журнала Франк перевел небольшую реплику С. Булгакова, изданную вместе с текстами Ф. Хайлера, его сотрудника Франца Маннхаймера (Franz Mannheimer) и пастора Конрада Минкера (Konrad Minkner) под общим заглавием «Christliche Kirche und Judentum. Briefwechsel eines “Judenchristen” mit einem “deutschen Christen”» (Христианская Церковь и иудаизм. Переписка «еврейского христианина» с «немецким христианином»)12.
В своей публикации в «Святой Церкви» Франк был чрезвычайно озабочен внутренней, т. е. духовной и религиозной судьбой еврейского народа, и особое внимание уделил проблеме обращения евреев в христианство. Такое обращение, в условиях господства христианской церкви и гонений на евреев, с точки зрения иудейских ценностей «должно было рассматриваться как предательство народа и его веры за земные блага»13. На самом деле, по словам Франка, в 9 случаях из 10 так и происходит, что приводит к «морально разрушительным последствиям» и для христианства — во-первых, христианами становятся «худшие из евреев», изменившие «своей национальной верности ради получения земных материальных благ», а во-вторых, такой крещёный еврей, «вместо того, чтобы стать живым ростком религиозного обновления и спасения евреев, порывает со своим народом»14. Дело, однако, принципиально изменилось в условиях действия «арийского параграфа» нацистского законодательства: «1. Отныне каждое противное Богу злоупотребление крещением не может быть использовано в целях достижения земных благ; лишь истинно принявшие христианскую веру евреи станут креститься; 2. Еврею-христианину суждено отныне и впредь разделять судьбу своего народа; он может оставаться верным своему народу, несмотря на свое христианское вероисповедание»15. Эти исключительные — безусловно, трагические для еврейского народа — условия, вместе с тем, ликвидировали «серьёзнейшее препятствие для обращения евреев в христианство»16. В конце концов, как замечает философ, — и эти его слова можно с полным правом отнести к нему самому, — истинно обращённые в христианство евреи «зачастую являются лучшими из христиан, в чьих душах горит страстная любовь к Христу»17.
Эта же проблема рассматривается и в публикуемом тексте «Еврей, принявший христианство». Этот краткий, тезисный, но красноречивый текст представляет собой яркий пример открытости, искренности и глубины мысли Франка. К сожалению, установить место и время его написания пока не представляется возможным, но, скорее всего, он близок по времени к упомянутой статье 1934-го года, подписанной «Von einem Judenchristen». Слова «сейчас — иудеям безумие» могут указывать на уже определившиеся реалии нацистского режима. Адресатом обращения философа, очевидно, могли быть русские евреи. Франк в берлинской эмиграции поддерживал определённые отношения с русской еврейской общиной, и даже выступал в синагоге с докладом о Спинозе18, однако, конечно, данная беседа вряд ли могла состояться в синагоге. Впрочем, вполне определённые сложности отношений с русско-еврейской эмигрантской средой Берлина отражены в словах самого Франка, описывавшего своё духовное одиночество Бердяеву в конце 20-х годов: «Кроме представителей двух коренных русских стихий — черносотенства и жидомасонства — здесь не осталось буквально ни одного человека. С первыми я не встречаюсь, а вторые, с которыми приходится иметь дело, не только абсолютно мне чужды, но в последнее время стали меня травить, обвиняя, что я назвал Айхенвальда человеком христианской души и даже обвиняя меня в том, что я самовольно похоронил его на православном кладбище (!)19 и заставляю евреев ходить на православную панихиду. Это довольно смешно, но нельзя сказать, чтобы было весело жить в такой атмосфере»20. Из этого письма, однако, можно сделать вывод, что идея единства истинно верующих иудеев и христиан была для Франка не только теоретической истиной, но и правилом практической жизни.
Переписка С. Л. Франка содержит ещё один эпизод его живого интереса к иудео-христианской среде. В Бахметевском архиве сохранился недатированный отрывок письма философа к жене, в котором, в частности, читаем: «Здесь некий Dr. Mannheimer, сотрудник Heiler’а, иудео-христианин, переселившийся из Германии и преподающий здесь богословие — очень бедствует21. Он обещал меня свести с разными иудео-хри-стианами. Здесь напротив меня, на другом берегу озера, живет католический патер еврейск<ого> происхождения, а в Базеле есть целое общество»22. При сопоставлении этого отрывка с другими письмами Франка к жене Татьяне Сергеевне, его можно датировать июнем 1935 года. Франк писал это письмо из Швейцарии, из пригорода Цюриха Рюшликон (Rüschlikon), куда он приехал для чтения доклада в местной протестантской общине — это была одна из поездок, связанная с сотрудничеством философа с пасторскими организациями евангелической церкви Германии (и продолжившаяся первым визитом Франка в Кройцлинген к Людвигу Бинсвангеру). Не касаясь здесь важного сюжета, связанного с интересом Франка к самой этой общине — «направления Heiler’а», задуманной «служить практическим нуждам христиан всех исповеданий и сделать опыт мирного сотрудничества в этом деле всех исповеданий»23, — отметим, что интересовавшие его контакты, очевидно, не состоялись. 3 июля, уже из Базеля, где он выступал 28 июня в университете, Франк писал жене: «Иудее-христиан я здесь не видал, их заседание совпало с моим докладом, а другого случая не было»24.
В связи с этими фактами возможна и такая версия: публикуемый ниже текст мог быть наброском плана несостоявшейся беседы философа с членами этой общины — наброском для себя (поэтому — на русском языке), для беседы с уже обратившимися (поэтому — «не прозелитизм»), однако, по мнению Франка (о чём можно судить по упомянутой выше статье), остро нуждающимися в утверждении и обосновании этого своего обращения иудео-христианами. В таком случае публикуемый ниже текст можно датировать июнем — июлем 1935 года.
Но это лишь версия.
Франк С. Л. <еврей, принявший христианство>
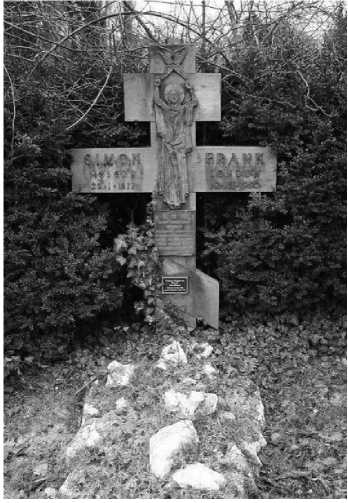
Могила С. Л. Франка на севере Лондона
Евр<ей>, принявший христианство. Не отступнич<ество>, а завершение веры отцов.
Не прозелитизм, а беседа.
Существуют, конечно, глубок<ие> ду-ховн<ые> мотивы, мешающ<ие> еврею принять христ<ианство>. Остановлюсь позднее. Сейчас сразу скажу: главное — не религ<иоз-ные> мотивы, а безверие. Отношение скептика к живой, конкретной религии. Ложность, будто христианство противоречит ветхозав
Ложность обычн<ого> мнения, что Мессия был у евреев политический вождь и освободитель. Идея религ<иозного> мессии, как примирителя народа с Богом. — Пришествие Мессии — религ<иозное> событие. Всечеловеческая роль Мессии (Исайя, 19,24 — 51027). Давид: ты возвестил еще о Доме раба твоего в далекие времена. И это будет учение человека (везот торат га-адам) 28 . Ср. Соловьев, Рабинович — нелеп перевод
«это почеловечески» 29 . Авраам «благословятся о Тебе все племена земные» 30 . Новые небо и земля (Ис. 65,17 — 539) 31 . — Пророч<ество> Исайи о страдающ<ем>, казненном и вос-кресш<ем> Мессии (Ис. 52–53 — 531сл.)32. Идея нового завета (Иер. 31 — 566)33. Мессия, как явление иного міра, как вечный (Мих. 5 — 664)34, как ангел, все потрясающий (Малах. 3, 681)35.
Пророческое религ<иозное> сознание опередило религ<иозное> разв<итие> народа. Окостенение религии. Фарисеи — не лицемеры, а консерваторы, хранители старой веры. Три момента, обуслов<ившие>36 непринятие Христа — 1) несовместимость явления Христа с представл<ением> о земном могуществе Мессии — «царство не от міра сего», путь страданий — старое представл<ение>, что Бог дает земные блага 2) кризис национального призвания — с принятием Христа кончается национ<альная> миссия евреев 3) религиозн<ый> страх обожествл<ения> человека — дистанция между Богом и человеком. Все три идеи — извращение религии, превращ<ение> ее в неверие. 1) Первое contra Исайя37, ср. еще Ис., 55, 533 — пути Господни38 2) нараст<ание> национализма безрелиг<иозного> из религ<иозного>-мессианского 3) нараст<ание> неверия из страха идолопокл<онства>.
Как случилось, что религ<иозный> par excellence народ стал народом-скептиком? Борьба с идолопоклонством — при живой рел<игиозной> вере нужна, в прот<ив-ном> случае ведет к неверию. Трансценд<ентность> Божества и легкость неверия. Имманентность переносится в будущее. Религ<ия> откров<ения> и религия пророчества — необход<имость> единства той и другой. — Последн<ее> проявление извращ<енного> пророч<еского> духа — атеистич<еский> социализм. Самочинное созидание Царства Божия — бунт. Совпадение этого с христианск<им> бунтом. Все-мирно-историч<еское> и религиозное значение крушения социализма. Место и воз-можн<ая> роль еврейства.
Единств<енное> содерж<ание> еврейск<ого> национализма — религиозное призвание. Нелепость светского сионизма39. Падение светской культуры. Мечта о новоза-ветн<ом> израиле — для чего иного сохранен евр<ейский> народ?