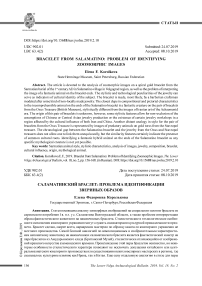Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов
Автор: Королькова Елена Федоровна
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу зооморфных изображений на спиральном золотом браслете из сарматского погребения I в. н.э. у с. Саламатина Волгоградской области, а также проблеме интерпретации образа фантастического животного на наконечниках браслета. Стилистические и технологические особенности исполнения ювелирного украшения могут служить индикаторами культурной принадлежности предмета. Браслет сделан, скорее всего, варварским мастером по образцу какого-то ювелирного украшения не местного производства. Самой близкой аналогией по композиционным и изобразительным характеристикам непонятному животному на наконечниках саламатинского браслета является фантастический монстр на паре браслетов из Амударьинского клада (Британский Музей), стилистически отличающийся от изображений иранского искусства ахеменидского времени. Происхождение этой пары браслетов неизвестно, но некоторые особенности стилистического характера позволяют не исключать допущения китайского или центральноазиатского ювелирного производства или существования неких ювелирных мастерских в регионе, где сказывалось культурное влияние как Ирана, так и Китая. Еще одну отдаленную аналогию в стиле для пары рассматриваемых браслетов из сокровищ Окса представляют образы хищных зверей на золотых гривнах из Ставропольского клада. Хронологический разрыв между саламатинским браслетом и украшениями из Амударьинского и Ставропольского кладов не позволяет связать их однозначно, но черты сходства, безусловно, свидетельствуют о наличии общих культурных корней. Идентифицировать фантастического гибридного зверя на наконечниках саламатинского браслета с каким-либо конкретным мифологическим существом пока не представляется возможным.
Сарматский звериный стиль, стилистические характеристики, анализ изображений, ювелирные изделия, композиция, браслет, культурное влияние, происхождение, мифологическое животное
Короткий адрес: https://sciup.org/149130858
IDR: 149130858 | УДК: 902.01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.10
Текст научной статьи Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Королькова Е. Ф., 2019. Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 156–168. DOI:
Вклад исследователя в науку оценивается не только исходя из значения его собственных изысканий и количества авторских публикаций, но и учитывая потенциал актуальности поднятых им проблем. В полной мере это относится к профессиональным заслугам Ирины Петровны Засецкой, которая в равной степени оставила свой след в области гуннской и сарматской археологии, в изучении бос-порских древностей и сарматского звериного стиля. Последняя тема может рассматриваться как особая область исследования, учитывая специфический характер объекта изучения, который включает необходимость анализа как материальной, так и духовной культуры древности и привлекает интерес, приобретая все большее значение.
Публикации И.П. Засецкой, посвященные этой тематике, охватывают 60 лет научной деятельности, начиная от первых статей, направленных на изучение отдельных памятников и решение конкретных хронологических задач [Берхин (Засецкая), 1959], до обобщающих больших работ последних лет, в которых поднимаются проблемы концептуального характера и выстраивается линия развития кочевнических культур рубежа эр, а также высказываются гипотезы относительно генезиса, последующей эволюции и культурных связей различных этносов. Публикации И.П. Засец-кой всегда вызывают отклик в работах коллег, зачиная дискуссии и возбуждая научный интерес других исследователей к затронутой ею проблематике. Отталкиваясь от ее выводов, они ищут новые направления в изучении поднятых проблем и представленного материала. И, несмотря на прошедшие годы и успехи археологии в целом, ее работы и взгляды, даже при частичном пересмотре собствен- ных выводов, остаются неизменно актуальными.
Так, благодаря публикации и научному анализу И.П. Засецкой, посвященным исследованию погребения у с. Саламатина в Нижнем Поволжье, первой работе тогда совсем молодого ученого, а также ее выводам относительно датировки комплекса I в. до н.э. – I в. н.э. [Берхин (Засецкая), 1959, с. 39], внимание археологов было вновь привлечено к памятнику, материал которого ранее уже был объектом изучения таких маститых специалистов прошлого, как Э.Х. Миннз [Minns, 1913], М.И. Ростовцев [Ростовцев, 1918; Ростовцев, 1925], М. Эберт [Ebert,1927/1928, S. 191]. После статьи И.П. Засецкой к этому памятнику обратился М.И. Артамонов, занявшийся вопросами хронологии скифо-сибирских украшений [Артамонов, 1971] и определивший дату погребения немного более ранним временем – II–I вв. до н.э., не согласившись с предложенной И.П. Засецкой датой, показавшейся ему расплывчатой [Артамонов, 1971, с. 55]. Однако эта оценка была вызвана явным недоразумением, поскольку И.П. За-сецкая датировала саламатинский комплекс достаточно узким интервалом времени – I в. до н.э. – I в. н.э., а в последнее время пришла к выводу о более вероятной дате I в. до н.э., справедливо относя его к сарматской культуре. М.И. Артамонов же просто ошибся, приписав ей широкую датировку.
Культура ранних евразийских кочевников формировалась под влиянием многих факторов, а территория ее бытования была весьма обширной и находилась в зоне соприкосновения номадов еще со скифской эпохи с оседлыми цивилизациями, включая иранскую и китайскую, что, несомненно, обогащало, преж- де всего, искусство номадов. Поэтому в кочевнических погребениях встречаются предметы, которые отмечены признаками влияния как той, так и другой культур, и точное определение векторов этих взаимодействий чрезвычайно затруднительно. Между тем печать подобных культурных заимствований лежит на разных художественных изделиях, включая образы ювелирного искусства. Подчас следы этих культурных импульсов проявляются в признаках опосредованного влияния и с большим трудом вычленяются в комплексе характеристик, например, стилистического порядка.
Особый интерес в саламатинском комплексе представляют собой спиральные браслеты – малый – с головками баранов на концах и большой – с окончаниями в виде фигурок фантастических зверей (рис. 1). Последней работой, посвященной интерпретации саламатинского комплекса и идентификации изображенного на большом браслете зверя, стала статья В.Ю. Зуева «Саламатинский дракон Ци Линь» [Зуев, 2017, с. 62–70], которая вызывает несомненный интерес, но вместе с тем и некоторые возражения автору.
Любой анализ предмета звериного стиля всегда начинается с определения вида изображенного животного, что чрезвычайно важно для трактовки смыслового пласта в зооморфных изображениях. И уже на первом этапе исследования часто возникают трудности в попытках идентификации биологического вида. Отчасти в этом играет роль известная доля субъективности исследователя, а кроме того – сложность смысловой нагрузки и символического языка в древнем искусстве, связанная с невозможностью полной расшифровки мифологического содержания современным сознанием. Например, М.И. Ростовцев увидел в изображениях на саламатинском браслете горного козла (позже он, согласившись с М. Эбертом, полагал, что это антилопа). И.П. Засец-кая [Берхин (Засецкая), 1959, с. 39; Сокровища сарматов. Каталог ... , 2008, с. 78] и М.И. Артамонов [Артамонов, 1971, с. 54] тоже считали этого зверя горным козлом. Однако совершенно очевидно, что изображенное на саламатинском браслете копытное животное представляет собой не реальное, а мифологическое существо, поскольку в нем скомбинированы черты сразу нескольких зверей [Королькова, 2008, с. 18]. Это явление чрезвычайно характерно не только для скифо-сибирского звериного стиля, но и для искусства других древних культур, мифологии которых полны полиморфными образами различных чудовищ [Королькова, 2015, с. 162– 163]. Эти монстры чаще всего связаны с хто-ническим миром, но какова их роль, почему они используются в оформлении статусных украшений и как можно назвать эти фантастические образы, остается загадкой.
В изобразительной трактовке чудовищ в древневосточном искусстве разных культур можно выделить общие закономерности и приемы, обусловленные известной универсальностью знаковой системы, легко дешифруемой человеческим сознанием и потому, казалось бы, понятной. Так, наличие у некоего существа (любого облика, напоминающего какой бы то ни было биологический вид или фантастический гибрид разных видов) крыльев всегда свидетельствует о его способности летать и хотя бы частичной принадлежности к небесному миру. В свою очередь, признаки, присущие в природе рыбам (плавники, рыбий хвост и чешуя), говорят о причастности существа к водной стихии и умении плавать. То есть некоторые узнаваемые детали характеризуют мифологический персонаж с точки зрения его причастности к той или иной мировой зоне и зачастую свидетельствуют о его способности служить медиатором между мирами.
Существуют разные способы символической передачи некоторых значимых деталей изображения редуцированными знаками или декоративными элементами, расположенными на соответствующем месте [Мордвин-цева, 2003, с. 17; Королькова, 2006, с. 70; Зуев, 2017, с. 67]. Возвращение к описанию и расшифровке деталей одного и того же зооморфного изображения разными исследователями очень полезно, поскольку в конечном итоге приводит к наиболее оптимальному вербальному эквиваленту изобразительной формы. Например, В.Ю. Зуев высказал свое соображение относительно трактовки «загнутого против направления движения животного завитка на плече саламатинского зверя» как символического крыла грифона (рис. 2), объяснив этот условный прием невозможностью передать другими изобразительными средствами крыло на фигурке наконечника браслета в ограниченном формой предмета пространстве [Зуев, 2017, с. 68]. Следует принять заключение В.Ю. Зуева как наиболее вероятное в части атрибуции декоративно-символического элемента на плече животного. Однако причиной выбора такого способа стилизации крыла не обязательно была сложность решения пространственной задачи изобразить крылья на фигурном объемном завершении проволочной спирали браслета, так как множество подобных украшений, созданных древними ювелирами в ином стиле, имеют завершения в виде зооморфных крылатых фигурок без редуцирования крыльев. И с этой композиционно-пространственной задачей древние мастера великолепно справлялись. Но это совершенно частный вопрос, а сама дешифровка знака в принципе, несомненно, верна.
Фантастические звери – творение человеческого сознания и образного мышления, а механизм их формообразования принципиально понятен и сводится к «сочетанию несочетаемого», то есть причудливой комбинации признаков разных вполне реальных биологических видов, применению разных приемов стилизации [Королькова, 2015, с. 157, 160–164]. Мифологический хтонический мир населен различными чудовищами, как кровожадными, так и вполне миролюбивыми. Они весьма разнообразны, и определение их не всегда однозначно, а порой и затруднительно при отсутствии вербального описания. К тому же разные стили-зационные характеристики и приемы, традиционные для древнего искусства, еще более затрудняют задачу. И это еще раз подтверждает отсутствие единого канона [Королькова, 2006, с. 165] в скифо-сибирском зверином стиле, на существовании которого настаивает В.Ю. Зуев, использующий определение «устоявшийся самобытный канон» [Зуев, 2017, с. 66]. Но аналогии можно найти только общей композиционной схеме фигуры, а это вовсе не канон, который подразумевает жесткую регламентацию правил изображения вплоть до пропорций и деталей, и вообще-то характерен для искусства культур с развитой государственностью. В данном же случае мы сталкиваемся как раз со многими необычными деталями изображения, а не стандартными формулами.
Здесь следует уделить внимание исполнительскому аспекту в изображении салама-тинских зверей. Нельзя не отметить очевидного невысокого уровня ювелирного мастерства: фигурки сделаны довольно небрежно. На морде животного имеются несимметрично расположенные прямоугольные и округлой формы вдавления, которые, возможно, представляют собой предварительную разметку для прикрепления деталей, например, рогов, не совпавшую с конечным вариантом, но и не ликвидированную мастером (рис. 3). Предположение В.Ю. Зуева о том, что отверстия на морде предназначались для вставок из бирюзы, которые должны были украшать глаза животного, не соответствуют реальности, так как углубления недостаточны для установки вставки, а глаз оформлен иначе – способом, который не предполагает вставок. Моделировка форм фигурок саламатинского браслета выглядит грубовато, и в деталях отмечается отсутствие тщательности, несоблюдение симметричности некоторых элементов и неоднородность рельефной проработки. Такие характеристики обычно служат показателем не очень высокой квалификации мастера, который, скорее всего, воспроизводил некий чужеродный образец.
Очень часто в описании признаков изображенного животного, которое не встречается в реальности, приходится пользоваться любыми словесными формулами, вызывающими зрительные ассоциации, которые дают понятное представление о внешнем облике фантастического существа. Именно поэтому в описании зверя на саламатинском браслете я использовала условное определение странной формы носа, назвав его «пятачком» [Королькова, 2008, с. 18], что полностью соответствует действительности: морда животного заканчивается расширением с уплощенной поверхностью и в фас выглядит как круг с двумя точечными углублениями-ноздрями, то есть является тем, что ассоциируется со словом «пятачок» (рис. 4). Этот описательный прием ближе всего к визуальному впечатлению и дает точное представление о рассматриваемом изображении, то есть это только способ изображения необычной морды необычного зверя. С таким описанием не согласился В.Ю. Зуев, полагая, что это неверно.
Но здесь явно оспаривается очевидное: «пятачок» все-таки в наличии. Другое дело – в том, не «как», а «что» изображено, что подразумевается под переданной таким способом характеристикой животного. Это проблема замысла и исполнения, которая часто связана с вопросом о точности воспроизведения при копировании. Здесь возникает вопрос о подражании и об инокультурных заимствованиях. Поэтому утверждать, что это вовсе не «пятачок», а «нос хищника» с «вздернутыми ноздрями» [Зуев, 2017, с. 67] – конечно, некоторое преувеличение. Хотя оно в известной мере возможно, если допустить, что мастер воспроизводил по памяти какое-то образцовое изображение, не слишком ему понятное в силу ирреальности образа. Но это никак не может быть расценено как канон.
Нельзя согласиться и со стилистической характеристикой зооморфных фигурок, предложенной В. Ю. Зуевым, полагающим, что в основе стилистического решения лежит «стилизация под реализм», так как «животное, на первый взгляд, трактовано реалистично» [Зуев, 2017, с. 66]. Строго говоря, ничего реалистического в этом изображении нет. Отметив, что «в основе лежит образ копытного животного» (которое и сам автор распознать не может, называя как возможные варианты идентификации вида горного козла или лань), он аргументом для признания реализма считает «специфику компоновки тела» (вероятно, имеется в виду наличие туловища, ног, головы и хвоста) [Зуев, 2017, с. 66]. Но это еще не дает основания для оценки образа как реалистического. Все изображение выполнено в манере сильной стилизации и очень обобщенно, а тело животного, как отмечает сам автор, «намеренно искажено, чтобы усилить иллюзию динамики прыжка» [Зуев, 2017, с. 66]. Да и образ, судя по всему, ирреальный, но не синкретичный (то есть неразделенный), как определяет его В.Ю. Зуев, а скорее синтетичный, так как намеренно соединяет заведомо несовместимые детали. Так, козлиные рога находятся в противоречии с длинным хвостом, что не позволяет определить животное ни как козла или антилопу, ни тем более лань. Причем при всей условности изобразительной трактовки некоторые детали, вероятно, значимые для образа, все же воспроизведены, несмотря на их миниатюрность. Например, можно рассмотреть, что и передние, поджатые под туловище, и вытянутые задние ноги животного заканчиваются раздвоенными копытами, то есть подчеркнута его принадлежность к парнокопытным (рис. 5).
Композиция фигурки подчинена форме предмета, то есть вытянута сколь возможно, являясь продолжением толстой проволоки спирального браслета, что было отмечено еще И.П. Засецкой [Берхин (Засецкая), 1959, с. 39]. Правда, следует подчеркнуть, что спираль украшения не является полой, хотя В.Ю. Зуев называет ее «браслетной трубкой» [Зуев, 2017, с. 66]. В данном случае эта конструктивная особенность браслета важна, поскольку является существенной характеристикой в типологическом аспекте: полые трубки наручных и шейных украшений – несомненно, более поздний типологический признак [Королькова, 2001, с. 79]. Что касается стиля, то, справедливости ради, следует отметить, что И.П. За-сецкая тоже писала, что «изображение козла в основном трактовано реалистично, хотя имеются и элементы стилизации» [Берхин (Засец-кая), 1959, с. 39]. И это, на мой взгляд, заблуждение.
Однако самое интересное в статье В.Ю. Зуева – предложенная им интерпретация зооморфного образа как существа из китайской мифологии – сына дракона – цилиня (Ци Линя). И здесь, безусловно, имеются основания для такого предположения. Во всяком случае, можно допустить, что в этом образе проглядывает нечто, связывающее его, возможно, с китайской мифологией, а поиски изобразительных прототипов могут увести не только в иранский мир. Правда, цилинь ли изображен на саламатинском браслете – это вопрос дискуссионный. Для правомерности такой трактовки надо обратиться к характеристикам и признакам этого порождения китайской мифологии. Описание мифологического монстра сводится к следующему: цилинь – единорог, чудесный зверь, обитающий не в природе, а в древнекитайской мифологии. В нем все – не из здешнего мира: он соединяет в себе мужское и женское начала («ци» – самец-единорог, «линь» – самка). Это существо полиморфно: у цилиня тело оленя, но меньшего размера, шея волка, хвост быка, один неострый рог, завершающийся мягкой шишкой, то есть «мясным наростом», которым он не может причинить вреда, копыта коня, разноцветная или бурая шерсть (иногда в описаниях встречаются белые и зеленые цилини). Цилинь – существо миролюбивое и благостное: он не плотояден и питается волшебными злаками. Иногда он может летать по воздуху и ходить по воде, о чем упоминается в некоторых описаниях. Он также может выступать как вожак оленей и считается главным среди зверей [Рифтин, 1991, с. 607]. В относительно поздней изобразительной традиции воспроизведения образа цилиня встречаются вариации: чешуя, копыта оленя, пара маленьких оленьих рожек, но основные его признаки неизменны. Особо следует обратить внимание на подчеркнутую миролюбивость, а не хищную природу цилиня.
В.Ю. Зуев выделяет группу изобразительных аналогий для саламатинского монстра, относя всех их, несмотря на принадлежность разным культурам (от ахеменидского Ирана до Китая), к цилиням. Однако автор не случайно постоянно сбивается на другие определения, называя этих фантастических существ то грифоно-тиграми, то грифонами, то тигро-грифонами, то драконом-грифоном, то драконом, то тигро-волком [Зуев, 2017, с. 67–68]. Все же к образам цилиней отнесена группа весьма разнородных существ.
Так, цилинем признан фантастический зверь из Амударьинского клада из коллекции Британского музея, который представляет собой миксоморфное чудовище с головой хищника, но без характерных для свирепых плотоядных клыков в раскрытой пасти, с вздернутым носом, с козлиными рогами, длинными ушами и телом, вероятно, оленя (судя по длинным острым копытам), с крыльями и длинным хвостом. То есть этот монстр по своей морфологии не противоречит в целом вербальному описанию цилиня, хотя и не соответствует ему в полной мере: так, наличие у зверя рогов козла – некоторое отступление, но, вероятно, вполне допустимое, поскольку живого цилиня никто не видел 1. Близкий амударьинскому эгрету, тоже, несомненно, иранский по происхождению предмет, включенный в группу прообразов цилиня В.Ю. Зуевым, – бронзовая с золотой обкладкой пластина из 2-го Пазырыкс- кого кургана, демонстрирует совершенно идентичный образ, датируемый тем же временем, что и амударьинский монстр [Зуев, 2017, с. 64, 65]. Еще один близкий по времени и стилистическим особенностям пример, который приводит В.Ю. Зуев, – изображение рогатого крылатого хищника, терзающего коня, на парных поясных пластинах из Сибирской коллекции Петра I [Зуев, 2017, с. 67]. Здесь необходимо оговориться, что, безусловно, близкие по стилю и времени изготовления амударьинскому эгрету поясные бляхи из коллекции Петра I 2 демонстрируют монстра совсем другой природы, нежели цилинь: это крылатый хищник с телом тигра или пантеры и рогами козла, который яростно терзает поверженного коня. То есть это уж точно не благостный цилинь, который никого не убивает; соответственно, в данном случае подчеркнуты хищные черты зверя и особенно его мощные клыки и когти, впившиеся в жертву. Мифологических полиморфных чудовищ, составленных из разнородных зооморфных элементов, множество, но ставить между ними знак равенства нельзя, как и присваивать непонятным монстрам известные имена.
К более позднему времени, с соответствующими сарматской эпохе стилистическими формами, относятся подвески с полихромными вставками из Тилля-Тепе с мотивом «владычицы зверей». Это, безусловно, образы тех же монстров, но аналогией для сала-матинского браслета они могут считаться лишь условно. Еще несколько предметов, включая гривны и браслеты, приведены в качестве аналогий саламатинским изображениям в той же таблице, из которых особенно убедительным кажется лишь похожий образ на наконечнике гривны из Прохоровского кургана. Прочие художественные изделия с образами настоящих цилиней демонстрируют принадлежность к явно другой культуре и имеют чисто китайский облик и стилистику, демонстрируя мало общего с фигурками сала-матинских браслетов [Зуев, 2017, с. 65, рис. 2, 9 , 10 ].
Однако еще один образ гибридного фантастического существа, приведенного В.Ю. Зуевым в той же таблице в ряду аналогий, может стать ключевым для понимания оформления саламатинского браслета и его зооморфных наконечников и открывает новый аспект в исследовании культурных связей кочевников с окружающим миром. Пара идентичных браслетов из того же Амударьинского клада заслуживает большего внимания, чем просто аналогия фантастического образа [Артамонов, 1973, с. 48]. Речь идет о литых браслетах со сходящимися концами, оформленных каждый двумя симметрично расположенными по всей внешней поверхности кольца фигурами мифологического монстра (рис. 6). Последний сильно отличается от изображений ахеме-нидского времени по стилистическим признакам. В отличие от уже рассмотренных иранских образов полиморфных чудовищ, которых В.Ю. Зуев отождествляет с цилинем, этот длинномордый монстр имеет волкоподобную голову со складками на морде, длинные прижатые к шее уши, явный рудимент крыла на плече, поджатые под длинной шеей передние ноги и вытянутые назад задние, и длинный хвост (причем у этого существа отсутствуют рога). Браслеты выполнены в технике литья и имеют в разрезе треугольный профиль [Dalton, 1964, p. 38, 39]. И по типу предмета и технике исполнения, и по стилю зооморфных изображений эти браслеты совершенно выбиваются из всей категории иранских наручных украшений ахеменидского времени. Они сделаны, безусловно, мастером высокого класса и тщательно проработаны чеканкой после отливки. Вся поверхность тел обеих идентичных фигур монстров имеет орнаментальную, достаточно тонкую рельефную проработку и сложный графический рельефный рисунок (рис. 7). Стилистически они совершенно не похожи на другие зооморфные изображения иранского происхождения круга Амударьинского клада. Например, форма длинной пасти, морда со складками на носу, подтреугольной формы глаз – все это заставляет искать иное происхождение для украшений, которые, возможно, имеют отношение к Китаю или территории, культурно связанной с Китаем. Интересно, что изображение на саламатинском браслете имеет совершенно ту же схему художественного декора, что и на рассмотренных браслетах из сокровищ Окса, однако выполнено неизмеримо грубее и в иной стилистической манере. Еще одна стилистическая параллель этой паре амударьинских брасле- тов в менее искусном исполнении усматривается в гривнах из Ставропольского клада, которые также выполнены гораздо грубее, массивнее, и их декор не так тщательно проработан. Треугольная форма глаза у животного и манера его трактовки на ставропольской гривне напоминает рассмотренную необычную по стилистике пару браслетов из Амударьинского клада, которая стоит особняком среди украшений из сокровищ Окса и выпадает из серии ахеменидских ювелирных изделий. Еще О.М. Дальтон отметил сходство между этой парой браслетов из Амударьинского клада и грубыми, массивными варварскими ставропольскими украшениями [Dalton, 1964, p. 38, 39]. Не исключено, что на территории где-то между Средней Азией, Ираном и Китаем могло располагаться развитое ювелирное производство, оказавшее влияние на периферийные мастерские, где, возможно, работали и варварские мастера, происходившие из кочевой среды. Во всяком случае, известные параллели в композиционном решении и стилистическом оформлении пары необычных браслетов из Амударьинского клада заметны именно в облике монстра на саламатинском браслете и в зооморфном декоре гривен Ставропольского клада.
Возможно, это отголоски некоего китайского влияния в области художественного производства, причем, скорее всего, в весьма опосредованном варианте.
Возвращаясь к гипотезе В.Ю. Зуева, приведу его заключение относительно образа на большом саламатинском браслете: на нем «изображен не просто синкретичный хищный зверь, а персонаж хтонического бестиария из семейства драконов, игравший заметную роль в мифологических представлениях сарматских племен». В таком контексте, по мнению В.Ю. Зуева, «два браслета из саламатинско-го комплекса, на одном из которых изображен “дракон”, а на другом – голова жертвенного барана, возможно, символ фарна, образуют важную в семантическом плане пару сакральных предметов, имевших определенное значение в обрядовой культовой практике их хозяев» [Зуев, 2017, с. 68]. В этом аспекте автор приводит в качестве аналогичной ситуации сочетание в зооморфном декоре украшений из Сибирской коллекции Петра I на одном браслете головок барана, а на другом – «дракона» [Зуев, 2017, с. 68]. Но такая аналогия вряд ли правомерна, поскольку Сибирская коллекция не является единым комплексом, и включенные в нее древности могут происходить абсолютно из разных курганов. Кроме того, дракона или цилиня В.Ю. Зуев наделяет функцией хищника, в то время как он существо по определению не плотоядное.
И, несмотря на убежденность В.Ю. Зуева, что китайские параллели дают нам однозначную трактовку копытного существа с рогатой головой дракона, крыльями и длинным хвостом как персонажа китайской мифологии, сына дракона – Ци Линя [Зуев, 2017, с. 68], мне кажется, что весь этот мифологический бестиарий представляет собой более сложную и неоднозначную систему образов, в которой не так просто разобраться, и, соответственно, ставить знак равенства между китайским цилинем и саламатинским монстром не стоит. Грифоны, драконы, цилини и прочие мифологические создания, полиморфные и фантастические, отражают ирреальный мир древнего сознания и являются частью образных мифологических систем, которые порой существенно разнятся у разных народов, но зачастую имеют схожие функции и потому могут быть «прочитаны» в неродном мифологическом контексте.
Интерпретировать саламатинские браслеты как «дипломатические дары раннего периода проникновения посольств западной Хань в кочевой мир Средней Азии» [Зуев,
2017, с. 69] тоже, вероятно, слишком прямолинейно, поскольку эти украшения, несомненно, демонстрируют некую вторичность и не очень высокое мастерство. Это позволяет предположить изготовление художественных изделий по образцовым привозным ювелирным произведениям не в традиционных центрах производства, размещавшихся в крупных городах древних государств, а в каких-то периферийных мастерских, возможно, местными мастерами. Однако сам факт попытки найти в археологических предметах подтверждение связи и взаимодействия между культурами постахеменидского Ирана, Китая и миром евразийских кочевников заслуживает внимания и разработки. Зооморфные изображения саламатинского браслета становятся одним из звеньев еще только обозначившейся пунктирной связи для группы художественных памятников, отражающей один из векторов взаимодействия культур.
Список литературы Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов
- Артамонов М. И., 1971. Вопросы хронологии скифо-сибирского золота // Советская археология. № 3. С. 40-57.
- Артамонов М. И., 1973. Сокровища саков. М.: Искусство. 279 с.
- Берхин (Засецкая) И. П., 1959. Сарматское погребение у с. Саломатино // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 15. С. 37-41.
- Зуев В. Ю., 2017. Саламатинский дракон Ци Линь (из истории раннесарматского искусства) // Ранний железный век Евразии от рубежа эр до середины I тыс. н.э. Динамика освоения культурного пространства: материалы Междунар. науч. конф. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. Ин-т истории. С. 62-69.
- Королькова Е. Ф., 2001. Звериный стиль в оформлении гривен скифо-сарматской эпохи // Ювелирное искусство и материальная культура: сб. ст. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 68-95.
- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н.э.). Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. СПб.: Петербургское Востоковедение. 272 с.
- Королькова Е. Ф., 2008. Сарматские украшения и сибирское золото древних кочевников // Сокровища сарматов. Каталог выставки. К 100-летию со дня рождения Б.Б. Пиотровского. СПб.; Азов: Изд-во Азов. историко-археол. и палеонтол. музея-заповедника. С. 15-28.
- Королькова Е. Ф., 2015. Следы невиданных зверей (к проблеме трактовки фантастических образов) // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. № 40. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 157-188.
- Мордвинцева В. И., 2003. Полихромный звериный стиль. Симферополь: Универсум. 235 с.
- Рифтин Б. Л., 1991. Цилинь // Мифологический словарь. М.: Сов. энцикл. С. 607.
- Ростовцев М. И., 1918. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма. Петроград: Гос. археол. комиссия. 111 с.
- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Л.: РАИМК. 622 с.
- Сокровища сарматов. Каталог выставки. К 100-летию со дня рождения Б.Б. Пиотровского, 2008. СПб.; Азов: Изд-во Азов. историко-археол. и палеонтол. музея-заповедника. 176 с.
- Dalton O. M., 1964. The Treasure of the Oxus with Other Examples of Early Oriental Metal-Work. London: The Trustees of the British Museum. 118 p.
- Ebert M., 1927/28. Salamatino // Reallexikon der Vorgeschichte. Bd. 11. Berlin. S. 191.
- Minns E. H., 1913. Scythians and Greeks. A Survey of Ancient History and the North Coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus. Cambridge University Press. 720 p.