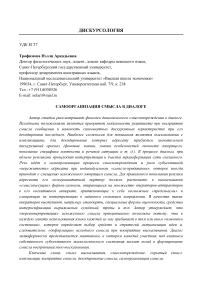Самоорганизация смысла в диалоге
Автор: Трофимова Нэлли Аркадьевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Дискурсология
Статья в выпуске: 4-1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи рассматривает феномен динамического смыслопорождения в диалоге. Исходными положениями являются приоритет модальности реципиента при восприятии смысла сообщения и важность сиюминутных дискурсивных характеристик при его декодировани последнего. Наиболее сложными для понимания являются высказывания с импликациями, для декодирования которых адресату требуется значительный дискурсивный арсенал (фоновые знания, знания особенностей личности говорящего, понимание специфики контекста и речевой ситуации и т. д.). В процессе диалога, при обмене репликами происходит интерпретация и (часто) трансформация сути сказанного. Речь идёт о самоорганизации процесса смыслопорождения и роли субъективной «пережитости» адресата при индивидуальном «смысло-придавании», которое иногда приводит к смещению заложенного говорящим смысла. Для правильного понимания реплики адресанта его коммуникативный партнер должен распознать в высказывании «смыслонесущие» формы-символы, опирающиеся на множество операторов-аттракторов в его когнитивном аппарате, притягивающие к себе возможные «предсмыслы» и смещающие их интерпретацию в заданном сознанием направлении. В качестве таких операторов выступают, например, стандарты, специальные формы оценочности, средства интернсификации выражаемых суждений, тропы и т.п. Автор утверждает, что «переинтерпретация» заложенного смысла принципиально возможна потому, что в каждую минуту использования языка каждый из нас пребывает в том или ином «языковом состоянии», которое определяет выбор средств и стратегий актуализации идеи и, следовательно, «деформация» исходного смысла при восприятии высказывания. Диалог метафорически представляется маятником, в котором каждый участник под влиянием собственного субъективного психологического состояния вносит вклад в формирование смысла воспринимаемого высказывания.
Смысл высказывания, смыслопорождение, скрытый смысл, импликация, восприятие смысла, декодирование смысла, самоорганизация смысла
Короткий адрес: https://sciup.org/147229856
IDR: 147229856 | УДК: 81'37
Текст научной статьи Самоорганизация смысла в диалоге
Предметом рассмотрения в настоящей статье является динамический характер процесса порождения смысла высказывания в немецкоязычном дискурсе повседневного общения. Теоретической базой рассуждений являются положения актуального и стремительно развивающиеся в настоящее время направления линвистики – теории смысла, разработанные в трудах А. И. Новикова [Новиков, 2007], О. А. Алимурадова [Алимурадов, 2004], А. А. Худякова [Худяков, 2000], Э. Д. Сулейменовой [Сулейменова, 1989], В. З. Демьянкова [Демьянков, 1995], Н. А. Трофимовой [Трофимова, 2009] и др. Современная – динамическая, релятивистская – парадигма лингвистической науки, учитывающая социальный и коммуникативный аспекты реализации языковой системы, рассматривает процесс порождения смысла высказывания как самоорганизующееся взаимодействие исходных данных, то есть непрерывное качественное изменение в конфигурации смысла в определённых дискурсивных условиях. Принципами становления нового смысла являются нелинейность (многовариантность) его развития, открытость и неустойчивость результата смыслопорождения, который характеризуется крайней уязвимостью к воздействиям коммуникативной ситуации, способным в некоторой точке развития смысла полностью изменить его в новом, иногда даже не предполагаемом говорящим направлении. Конечный смысл высказывания определяется принципом оптимальности: в зависимости от типа речевого действия, окружения, состояний речевых субъектов отношения между аспектами знака выстраиваются таким образом, чтобы взаимодействие языка и внешней среды было оптимальным [Киклевич, 2014, с. 21–22]. В результате формируется новый смысл, происходит усложнение, самодостраивание его элементов. Выбор альтернатив развития смысла непрерывен и многообразен: человек «творит свой мир самореферентно и самокреативно в режиме коммуникации и самоорганизации» [Буданов, 2007, с. 24].
В фокусе рассуждений исследователя находится слушающий с его пресуппозициями, сиюминутными настроениями и обстоятельствами. Поэтому в контексте настоящей статьи мы говорим не только/не столько о порождении смысла, сколько о его восприятии в диалоге. Именно при восприятии высказывания адресатом обнаруживаются неэксплицированные смыслы, порождаемые особым механизмом самоорганизации [Алефиренко, 2002]. Целью статьи является рассмотрение общих принципов функционирования этого механизма в ситуациях диалога, где значение языковых единиц актуализируется с учётом условий и процессов человеческой деятельности.
Рассуждения автора данной статьи базируются на анализе текстовых фрагментов стилизованной разговорной речи, смоделированной в художественных произведениях немецких авторов с учётом закономерностей диалогического общения. Обращение к литературным текстам продиктовано тем, что они дают возможность рассмотреть проявление особенностей предмета исследования в разных коммуникативно-прагматических пространствах, концентрирующих множества «возможных миров» героев, прототипами которых являются реальные люди. Такой широкий «ситуативный охват» невозможен при анализе только записей живой спонтанной речи, ограниченных, как правило, несколькими параметрами ситуации.
Основная часть
В основе человеческого общения лежит надежда на взаимопонимание, взаимопроникновение в духовные миры друг друга [Серебренников, 1988, с. 27]. Вопрос в том, как происходит это взаимопроникновение в процесс коммуникации, как функционируют основные законы и механизмы взаимопонимания. Успешная коммуникация представляет собой полное совпадение всех элементов смысла, закладываемого говорящим в высказывание, со смыслом, воспринимаемым слушающим. Это происходит потому, что понимание сказанного происходит по общепринятой «схеме действования», а форма и семантика сказанного, как правило, культурно обусловлены и адаптированы к развертыванию этих схем слушателем. Кроме того, для успешного понимания должны совпадать и пресуппозиции участников коммуникации, то есть их жизненный опыт, отношения с миром, весь тот спектр факторов, который и формирует человеческую личность. Если подходить к коммуникации с такими мерками, то очевидно, что подобное полное совпадение духовных миров практически недостижимо. Тем не менее, люди ежедневно, ежечасно говорят друг с другом и без труда понимают тончайшие нюансы сказанного.
Рассматривая феномен порождения и понимания смысла, автор настоящей статьи, как уже было сказано, концентрирует своё внимание на слушающем, который воспринимает созданный говорящим языковой знак и «распаковывает», реконструирует вербализованный и скрытый смысл сообщения с учётом всех дискурсивных особенностей (личность собеседника, прагматическая ситуация и т. д.). Языковые характеристики «обертона» смысла могут при этом уйти на второй план: нередко грамматическая некорректность формы не замечается собеседником и не вызывает трудностей в понимании сообщения, как, например, это происходит при восприятии следующего оскорбительного высказывания, в котором очевидно несоблюдение грамматических норм: Du Flachbrustluder, ja nur neidisch, weil keine Titten (Lewycka). Указание на физическое несовершенство партнера достаточно четко определяет интенцию отправителя, критерий изящества формы становится в такого рода ситуации нерелевантным. Разумеется, совсем списывать со счетов специальные языковые показатели нельзя, поскольку они тоже могут быть маркерами какой-то грани вербализуемого смысла, сигналом адресату о том, что дело обстоит именно так, а не иначе.
Как известно из прагматических исследований, самый простой случай расхождения в понимании имеет место быть, если слушатель реагирует лишь на формальную сторону языкового знака, не захотев или не сумев распознать истинную интенцию говорящего. Показателен в этом отношении следующий пример:
-
- Musst du mich immer argern?
-
- Nein, nur manchmal, wenn es mir danach ist (Konsalik) .
Очевидно, что неуспех речевого взаимодействия в приведённом примере обусловлен тем, что адресат преднамеренно предпочёл не заметить смысла слов отправителя высказывания (просьбу прекратить насмешки), а отреагировал лишь на формальную вопросительную семантику высказывания. Можно сказать, что в таких случаях слушающий упрощает высказывание, реагируя лишь на первый, самый поверхностный его слой.
Но возможен и противоположный, более сложный случай, когда слушающий придаёт высказыванию собеседника смысл, который тот в него не вкладывал – додуманный, неинтенциональный смысл, как, например, обида при восприятии ничего не значащего указания на особенность внешности адресата, которое неприятно задевает последнего в следующем речевом фрагменте: Die Warze, auch wenn sie sehr klein ist, ist vollkommen unübersehbar (Kroetz). Продолжение диалога – саркастическая благодарность реципиента и извинение неосторожного отправителя высказывания: – Danke. – So war es nicht gemeint.
Такой смысл определяется как «смысл, вербально не выраженный в тексте сообщения, но воспринимающийся адресатом как подразумеваемый и интерпретируемый им на основании языковой компетенции, знаний о мире и имеющихся в тексте сообщения показателей» [Масленникова, 1999, с. 4]. Потенциальная возможность неоднозначной интерпретации сказанного обусловлена сложным переплетением интенций коммуникантов в диалоге. Отобрать «нужную» интенцию среди множества второстепенных, «увидеть» языковую форму в задуманной собеседником перспективе и восстановить заложенный в ней смысл – неординарная задача реципиента, который для её решения должен мобилизовать все возможности своего сознания, собственные ситуативные и энциклопедические знания, пресуппозиции и коннотации, внутренний мир.
Непрямые высказывания . Реальность общения показывает широкое разнообразие способов неформального выражения смысла, поскольку в языке существуют формы и их комбинации, которые допускают не одну или две, а значительно большее число интерпретаций. Это косвенные высказывания, истинная коммуникативная функция которых часто с трудом улавливается даже участниками конкретного диалога. Такого рода высказывания являются средством большой воздействующей силы, позволяют участникам диалога передавать нетривиальные речевые интенции, сложные смысловые нюансы.
Категория косвенных высказываний неоднородна, они различаются по степени удаленности буквального значения от реализуемого в них смысла. В конвенциональных косвенных высказываниях ( Könnten Sie mir bitte helfen? ) эта удалённость незначительна, поскольку выражаемая в них интенция очевидна, а форма её выражения стандартна, клиширована. Поэтому говорящий прилагает минимум усилий для образования таких форм и их включения в процесс общения, а адресат без труда декодирует заложенное в них коммуникативное намерение. В случае неожиданной, неадекватной реакции адресата на такое конвенциональное косвенное высказывание имеет место демонстративное игнорирование его истинного смысла, нацеленность на конфликтное общение (например, Ja, ich könnte... в ответ на означенный выше вопрос).
В высказывании с импликацией истинная интенция далека от буквального содержания, и коммуникация может быть успешной только в случае правильного «прочтения» адресатом задуманного интенционального смысла. Неверная интерпретация слов партнера может создать разнообразнейшие непредсказуемые ситуации, даже конфликт, возникающий «из ничего», из-за неправильно понятого слова. Примером правильного декодирования высказывания с импликацией может служить следующее высказывание, которое внешне представляет собой искренний комплимент небогатого отца сыну, женившемуся на дочери крупного промышленника: Du siehst gut aus. Zu gut für meine Begriffe (Konsalik). Но адресат слышит в сказанном порицание, отрицательную оценку его внешности (zu gut), не отвечающей представлениям о сословной норме, поэтому формальный комплимент трансформируется в свою противоположность. Истинная интенция отправителя распознана верно, наступает ожидаемая перлокуция - растерянное оправдание-объяснение адресата о необходимости выглядеть именно так, а не привычным для него и отца образом: – Ich komme mir auch vor wie ein Pfau, Vater, aber ich kann keine Party im Blaumann besuchen.
Интерпретация высказываний с импликациями . Для правильной интерпретации сообщений с импликациями адресат прибегает к определённым мыслительным схемам, которые И. А. Стернин называет рецептивными схемами, то есть свойственными сознанию людей схемами понимания языковых выражений [Стернин, 2011, с. 9]. Речь идёт о том, что представители одного языкового и социального сообщества владеют, как правило, устоявшимся, апробированным лексико-грамматическим материалом, закреплённой в сознании базой языковых знаков, контекстов / условий их употребления. Универсальной для всех является и программа актуализации этих знаков и «расшифровки» сказанного, выраженного с их помощью смысла в коммуникативной ситуации, когда смысл без искажений передаётся из головы в голову (как вещь передаётся из рук в руки) и однозначно задаёт программу поведения адресата в следующий момент общения:
– Seit wann haben Sie den Faden der Ariadne?
-
- Heute Mittag (Kramer).
Мифологическая номинация в сообщении говорящего находит нужную когнитивную единицу знания в сознании адресата (миф об Ариадне и его элемент - нить как символическое обозначение инструмента для решения сложной задачи); заложены в высказывании смысл накладывается на знание адресата, и понимание разыгрывается по задуманной отправителем партитуре.
Но имеют место ситуации, когда ориентация на идеальный путь восприятия сказанного наталкивается на ограниченные рамки ментальных возможностей адресата. Рецептивная схема не срабатывает, понимание блокируется, что вынуждает слушателя совершать дополнительные речевые действия:
-
- Eine Hydra beginnt ihre Kopfe um uns zu schlingen.
– Eine Hydra? Was ist das? (Koeppen)
Адресат, как видно из его реакции, не в состоянии соотнести смысл фразы с социально-культурно-историческим контекстом, импликация не достигает своей цели, заложенный говорящим смысловой «ген» не находит своего развития.
Самоорганизация смысла . Очевидно, что мы не можем никогда однозначно предсказать, «как наше слово отзовется»: задуманный говорящим смысл имеет множество направлений развития в сознании адресата; он уязвим даже к самым незначительным внешним колебаниям (ассоциация, образ, впечатление). Те или иные (даже случайные) элементы функционального плана могут оказать решающее влияние на процесс смысловосприятия, рождая новые элементы смысла (субсмыслы), не соответствующие задуманному. В точках выбора одного из таких путей он является принципиально неустойчивым, именно здесь он переинтерпретируется в соответствии с внутренними (субъективными) обстоятельствами общения, как это происходит, например, в следующем речевом фрагменте:
-
- Hast du dich wieder in eine Undine verliebt?
– Sie war eine Zufallsbekanntschaft. Im Hallenbad (Gelich).
Говорящий иронично высказывается об очередной потенциально опасной разочарованиями любовной связи адресата. Для обозначения коварной обольстительницы он использует образ прекрасной женщины-русалки из германской мифологии, увлекавшей очарованных её пением и красотой путников в подводную глубину, откуда не было пути назад. На нарицательность номинации указывает неопределенный артикль eine , факт, что адресат уже неоднократно наступал на одни и те же любовные «грабли», имплицируется включением слова wieder. Понимание сказанного, как и в предыдущих случаях, должно было быть связано с узнаванием и отождествлением личного опыта адресата с историей несчастных рыбаков, погубленных Ундиной. Но «отравленное» любовью сознание реагирует только на имя, которое по случайности оказывается и именем его новой возлюбленной, оставляя без внимания все маркеры иронического смысла. Нужная когнитивная единица знания имеется в наличии, но она оказалась незадействованной, смыслового аккорда не получилось, ситуация закончилась простым пояснением обстоятельств знакомства.
Но нельзя сказать, что понимание в приведённом фрагменте подобно известной музыкальной табакерке из сказки: валик останавливается, молоточки падают, колокольчики перестают звенеть, как только пружинка выходит из строя. В воспринимающем сознании пружинка запускает новый вариант развития смысла, кодирует высказывание заново, по-своему. Иначе говоря, смыслопорождение превращается в самоорганизующийся процесс, под влиянием субъективного психологического состояния адресата и его личностного знания в действие вступают механизмы «смысло-придавания» и «смысло-приращения». Я. И. Свирский говорит о «маятнике диалога», в котором каждый участник вносит собственный вклад в формирование смысла и является обладателем своих собственных, только ему видимых граней последнего [Свирский, 2001, с. 51]. В результате трансформации и «скрещения» задуманного говорящим содержания получается многослойно кодированное целое, некий смысловой «гибрид».
Смещение смысла является специфической стратегией в общении. которая создает некоторый пробел между тем, что сказано, и тем, что воспринято / понято. Для заполнения этого пробела в работу включаются «сверхэмпирические непрерывные акты сознания» (термин Я. И. Свирского), выводящие сложные логические заключения об истинном смысле такой импликации, идентифицирующие текст внутри текста (процедура, конгениальная герменевтическому кругу при работе с текстом). В процессе понимания высказывания с импликацией в последнем вычленяются смыслонесущие формы-символы, опирающиеся на множество операторов-аттракторов в когнитивном аппарате слушающего, притягивающих к себе возможные «предсмыслы» и смещающих их интерпретацию в заданном сознанием направлении. Так, например, интерпретируются дескриптивные высказывания, воспринимаемые как похвала. Такая интерпретация возможна и даже «дόлжна» в релевантной ситуации общения, поскольку есть аттракторы - стандарты, критерии суждения об описываемом положении дел, и поскольку мы по умолчанию исходим из того, что партнер использует эти стандарты. Процедура понимания дескриптивного высказывания Ganz schön stark heute [Kaffee]. Er könnte ja Tote aufwecken (Wussow) опирается на владение адресатом соответствующей нормой (Guter Kaffee soll stark sein), включает дескриптивный предсмысл, который соотносится со стандартом и приводит к выводу об актуализации интенции похвалы (Der Kaffee ist heute gut, weil er ganz schön stark ist, wie ein guter Kaffee eigentlich auch sein soll. Ich lobe dich und danke dir für den Kaffee). Ещё подобный пример: Du hast die Gesellschaft ganz schon durcheinander gebracht (Konsalik) - дескриптивное высказывание, констатирующее факт недоумённого замешательства присутствующих на богатом приеме гостей, является похвалой адресату - приглашённому на этот приём бедному горняку, не стесняющемуся своего происхождения (скорее гордящемуся им), свободно, «не прогибаясь», высказывающему своё мнение. В пресуппозиции этого высказывания находится общность взглядов обоих партнеров - тот самый стандарт, на основе которого адресат делает логический вывод о положительной оценочности приведённого высказывания. Смыслонесущей формой-символом можно считать здесь наречие-интенсификатор ganz schön, без которого приведённое высказывание могло бы быть понято как порицание за конфронтационное поведение.
Множественную интерпретацию допускают и импликации, задуманные автором как скрытая отрицательная оценка. Степень правильности прочтения интенции зависит от семантического расстояния (количества инференциальных шагов) между словом-символом в формально неоценочном высказывании и собственно инвективным оценочным смыслом. Например, следующее высказывание-самопохвала воспринимается как однозначно оскорбительное, поскольку указывает на неверность объекта речи - супруга женщины-адресата, и на причину неверности - немолодой возраст последней: Nur meinen Warnungen, meiner Sorge und meinem guten Ruf ist es doch zu verdanken, dass Michael nicht längst die Fliege gemacht und sein Glück in den Armen einer anderen gesucht und gefunden hat. Einer ...Jüngeren (Wussow). Формой-символом здесь является сравнительная степень прилагательного jung, которая и смещает предсмысл в направлении к инвективе: Du bist zu alt, um deinen Mann zufriedenzustellen.
Еще один речевой фрагмент для иллюстрации процесса самоорганизации смысла: - Nun, Ihr Mann ist tot, Sie sind eine Frau, das lockt die Haie an. - Ich weifi selbst, dass ich eine Frau bin, danke. Es gibt aber auch weibliche Tiere unter Haien, Herr Wiedenroth. Und sie haben auch Zähne (Hauptmann). У адресата стимульного высказывания есть альтернативная возможность интерпретировать его в направлении, заданном говорящим, действительно сочувствующим вдове владельца крупного бизнеса и обеспокоенным ввиду трудностей и опасностей мира больших денег. Но личностное знание, уже переключившее гештальт адресата, диктует ему иное понимание, механизм субъективного смыслопридавания смещает интерпретацию в направлении инвективного указания на гендерные особенности, которые могут стать причиной финансовых потерь. Ещё одним нюансом услышанного и по-своему интерпретированного смысла является предложение продать дело и не путаться под ногами акул бизнеса. Реплика-реакция указывает на то, что маятник диалога вернулся к говорящему с информацией о новом мировидении адресата, который заявляет о своих намерениях и уверенности в своих силах и возможностях. Маркером, допускающим смещение смысла, становится неосторожно высказанное говорящим противопоставление по гендерному признаку.
«Переинтерпретация» заложенного смысла принципиально возможна потому, что в каждую минуту использования языка каждый из нас пребывает в том или ином «языковом состоянии», определяющем конкретный способ применения языка, выбор средств и стратегий актуализации ментального и, следовательно, степень «деформации» исходного смысла при его восприятии. Например, использование различного рода тропов в речи отсылает воспринимающее сознание к невербализованному остатку сообщения, его конвенциональной ценностности. Но обобщённость человеческого опыта, сконцентрированного в метафорах и идиомах, не исключает их специфического восприятия в конкретной ситуации общения, где сказанное может произвести самый разный эффект: адресат может счесть некое сообщение с клишированной инвективой смертельным оскорблением или пропустить его мимо ушей как ничего не значащее замечание, если услышанное не подпадает для него под критерий существенности, если ненормативность и непристойность являются для него нормой в общении. Тогда он остаётся презрительно равнодушным и даже испытывает удовлетворение, наблюдая негодование партнера: - Du...du Schwein! – Danke. Solche Schmeicheleien höre ich öfter (Konsalik). Конечно, такое приращение смысла скорее исключение, чем правило, оно рождается в уникальный момент общения в уникальном языковом состоянии, когда любой нюанс - внешний раздражитель или какой-то элемент воспринимаемого сообщения - даёт адресату повод додумать сказанное, добавить в него часть субъективной «пережитости». В общении возникает незапланированное функциональное колебание, выводящее прагма-смысловое поле общения из равновесного состояния, в нем возникают новые спонтанные свойства, вектор развития диалога меняется.
Заключение
Приведённые выше размышления показывают эффективность синергетического подхода для объяснения динамических процессов, происходящих на когнитивном уровне, рождающих своеобразный «эхо-отклик» сказанного слова. Адресат высказывания воспринимает сказанное сквозь призму своего мировоззрения и опыта. Понимание импликаций (не всегда заложенных в исходный смысл) происходит в специфической ситуации «излома» диалога, когда в виртуальной точке бифуркации в процесс понимания включается надситуативное молчаливое знание слушателя, который декодирует услышанное, додумывая его под влиянием этого знания. Результат декодирования не всегда совпадает с предполагаемой говорящим коммуникативной перспективой, он порой превращается в противоположность ожидаемого. Бесконечность и «взаимоотсылаемость» воздействующих на сознание факторов порождает нюансы и парадоксы в общении. На субъективную «пережитость», как на плодородную почву накладывается семантика так называемых «слов-бумажников» (Ж. Делез), являющихся носителем множественных смыслов, и выбранная из ряда возможных грамматическая структура языковых единиц. Сознание реципиента мгновенно проходит своеобразный герменевтический круг: от активизации нужных когнитивных единиц знания через их интеграцию к созданию представлений, затем к формированию и осмыслению когнитивных структур и к смыслопостроению [Колодина, 2001, с. 7]. В результате рождается новый смысл, который развивается, самоорганизуется в продолжении диалога, поскольку отправитель высказывания в момент получения реакции на него превращается в реципиента со своей субъективностью и индивидуальностью, своим горизонтом понимания.
Автор настоящей статьи отдаёт себе отчёт, что представленный взгляд на смыслопорождение носит упрощённый характер, но задача подробного описания динамики процесса смыслопорождения в статье не ставилась. Важным представляется сам факт
«поиска смысла» с позиции самоорганизации, которая дополняет традиционный когнитивный подход с его представлением о человеке как о системе переработки информации, [Демьянков, 1995, с. 17]. Идея самоорганизации смысла в диалоге позволяет по-новому взглянуть на процесс языковой коммуникации, показывает динамический характер когнитивных структур и процессов.
Список литературы Самоорганизация смысла в диалоге
- Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. Москва: Академия, 2002. 391 с.
- Алимурадов О. А. Значение, смысл, концепт и интенциональность: система корреляций. Дисс. … д. филол. н. Ставрополь, 2004. 520 с.
- Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании: Автореф. … д. филол. н. Москва: ИФ РАН, 2007. 35 с.
- Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17-33.
- Колодина Н. И. Проблемы понимания и интерпретации художественного текста. Тамбов: ТГТУ, 2001. 125 с.