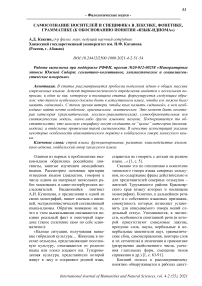Самосознание носителей и специфика в лексике, фонетике, грамматике (к обоснованию понятия "язык-идиома")
Автор: Каксин А.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4-2 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема выделения идиом в общем массиве современных языков. Аспект терминологического определения сводится к нескольким вопросам, и один из них, которому и посвящена статья, формулируется следующим образом: что такого особенного должно быть в естественном языке, чтобы его можно было назвать «идиомой». С точки зрения автора, чтобы язык назвать «идиомой», в нем необходимо найти нечто особенное, оригинальное, экзотическое. Это может быть некоторая категория (грамматическая, лексико-грамматическая), словообразовательная или синтаксическая модель, какое-либо другое языковое явление. Подчеркивается то обстоятельство, что искомую специфику могут создавать не “целые” категории (явления, модели), а отдельные проявления такой системности. В качестве иллюстраций указаны некоторые особенности идиоматического порядка в койбальском говоре хакасского языка.
Строй языка, функционирование, развитие, взаимодействие языков, язык-идиома, койбальский говор хакасского языка
Короткий адрес: https://sciup.org/170188714
IDR: 170188714 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-4-2-51-54
Текст научной статьи Самосознание носителей и специфика в лексике, фонетике, грамматике (к обоснованию понятия "язык-идиома")
Одними из первых к проблематике языков-идиом обратились российские лингвисты, занятые изучением самодийских языков. Рассмотрим основные критерии отнесения языков (диалектов, говоров) к числу идиом на материале нескольких работ московских и санкт-петербургских исследователей. Выдающийся лингвист А.И. Кузнецова, в предисловии к одной из своих монографий, пишет сначала о внешней, экстралингвистической составляющей языка-идиомы. Обратим внимание на то, что в этом высказывании связываются воедино реальный факт и некоторый парадокс (такое сплетение само по себе идиоматично):
«Налицо ситуация, получившая название гибридной культуры… Живущие в поселке селькупы, представляющие поселковую культуру, отказываются от родного языка или плохо владеют им. Тундроволесная культура, представители которой живут в лесу и сохраняют родной язык, стараются не говорить с детьми на родном языке…» [1, с. 5].
Сказано это по отношению к носителям тазовского говора языка северных селькупов, но содержание фразы действительно и для представителей северных селькупов – жителей Туруханского района Красноярского края (языку которых и посвящена монография). Конечно, в дальнейшем речь идет и о собственно языковых признаках, совокупность которых позволяет установить для описываемого говора некий отдельный статус. Упоминаются, в частности, особенности спонтанной речи (в которой присутствуют смысловые лакуны, пропуски слов, паузы, вербальные и невербальные заменители пауз, грамматические сбои, самоисправления, повторы слов и их сегментов) и изменения в грамматике (разрушение двойственного числа, усечения глагольных форм, смешение типов спряжения и др.) [1, с. 63-91].
Близкий подход к рассматриваемому понятию обнаруживается в работах санкт- петербургских лингвистов, в частности, А.Ю. Урманчиевой. Так, в одной из ее статей «на материале фольклорных текстов рассматриваются нарративные стратегии среднетазовского диалекта селькупского языка и нганасанского языка, основанные на использовании форм косвенной эви-денциальности (инферентива и репортати-ва). Оба этих идиома относятся к самодийским, и выбор для сопоставления именно их обусловлен тем, что нарративные стратегии описываемых типов (как и различение отдельных форм репортатива и инфе-рентива) характерны только для этих двух идиомов» [2, с. 59].
Итак, в общем смысле идиомой нужно считать язык (или диалект, или говор), характеризующийся некоторым набором специфических изоглосс, причем в числе последних превалируют изоглоссы, возникшие вследствие языкового сдвига [3, с. 223-230; 4, с. 86-98].
Далее, отнесение к идиоме определенным образом связано с этническим самосознанием носителей: существование конкретной идиомы констатируется потому, что люди, говорящие на этом языке (сколько бы мало их ни было), отчетливо противопоставляют себя другой группе. К примеру, вот как описано это осознание различия между двумя близкими финноугорскими языками в нижнем течении р. Луги:
«Те из наших информантов, у которых один из родителей был водью, а другой ижорой, в качестве основного языка почти всегда использовали ижорский (даже если они и обладали некоторым знанием во-дского). … Большинство носителей во-дского языка, с которыми нам приходилось работать, имели большие или меньшие познания в ижорском языке… Однако ижоры практически никогда не владели специфической водской лексикой» [3, с. 220].
Это чисто лингвистическое объяснение авторов. Но интересно, что почти так же об этой ситуации говорят простые люди (авторы цитируют их ниже):
«“Ижоры плохо выговаривали вадьев-ский язык. Нечисто. Вадья по-ижорски говорили абсолютно одинаково [то есть, как ижора – авторы статьи]. Разницы никакой не было. По языку никто не мог определить, что он ижор или вадья. Хорошо говорили. А вот почему не могли чисто говорить по вадья ижоры – не знаю” (мужчина, водь, д. Лужицы, 1921 г.р.)» [3, с. 220].
Рассмотрим с этих позиций койбаль-ский говор хакасского языка. Интересно уже то, что данный говор относится к типу языковых образований, появившихся в результате ассимиляции одного языка другим. С точки зрения грамматической типологии современный койбальский говор, безусловно, является тюркским. Чтобы в этом убедиться, достаточно внимательно прочитать (или прослушать), например, следующий текст:
Топленай масланы хайылдырған хайах, ÿсте:н де: хайах тiфча:ла:р, хайзы хайыл-дыр салған, хайзы ÿстеп салған тiфча. Сметен потхы и:дiвал, анаң ÿстÿне талған урувс, умурталған то:ладыс. Чичинала: умуртох тiфча, Чылтығашефте:р, Минди-бекофта:р олар умуртох тiфча:ла:р. Хый-маны пик арах тудуф, пик арах суғуф о:дыраға кирек, кöмес суғуф, палғавзаға. Па:рды се:чке: начыфча:м [5, с. 175-176].
Перевод отрывка на русский язык: “Топлёное масло называют и хайылдырган ( букв . растаявшее), и топлёное масло, некоторые говорят (я) растаял масло, некоторые – растопил. Сделай сметанную по-тхы, наверх посыпать талган, талган из умурта (черемуховый). Чичининцы (жители Чичины) тоже умурт говорят, Мылты-гашевы, Миндибековы, они тоже умурт называют. Хыйма (толстые кишки лошади) держать крепко, натолкать посильнее (мясо), связать. Печень крошу в сечке” [5, с. 177].
Этот текст далее можно проанализировать в плане выражения в нем аспектуальной семантики (глагольными формами). Известно, что в тюркских языках выражение аспекта действия существенно отличается от того способа, который “принят” в других языках. Ярким примером здесь является оппозиция русских глаголов совершенного и несовершенного вида. В тюркских языках, напротив, получил распространение способ суффиксального оформления (и тем самым – дифференциации) основных характеристик действия : скоротечности (при этом может быть указана мгновенность начальной или конечной фазы), длительности, регулярной повторяемости, завершенности (результативности). В приведённом отрывке данное положение подтверждается использованием синкретичных глагольных слов : хайылдырған ‘топлёный’, тiфчалар ‘говорят’, хайылдыр салған ‘растопил’, ÿстеп салған ‘растопил’, идiвал ‘сделай’, тудуф ‘держа’, суғуф одыр ‘засовывая’, палғавзаға ‘завязать’, начыфчам ‘крошу’. (Графемой ф в данном случае отражается специфическое койбальское произношение тюркского звука [п]).
Подобные записи, а также материалы словарей и других печатных изданий, подтверждают наличие у койбальского говора базовых признаков языка тюркского типа (имеющих, однако, небольшие отклонения): исторически сложившийся фонемный состав, закономерно обусловленные сочетания согласных, сингармонизм, шестиместная именная падежная парадигма, определенный набор форм глагольного наклонения- времени. В этот список следует добавить некоторые другие признаки и свойства, имеющие специфику выражения в койбаль-ском говоре: наличие изафетной конструкции, импликативная реализация граммем категорий числа-падежа и детерминации, морфологическое выражение обусловленной модальности, множественность эвиден-циальных значений и средств их выражения, богатство системы инфинитных форм (и, на основе последней, – развернутая система зависимой предикации).
Другими словами, общий строй исследуемой языковой идиомы характеризуется в целом как тюркский (шире – алтайский). Имеются отдельные явления (фонетические, лексические, грамматические), не вписывающиеся в эту парадигму, но их присутствие легко объясняется: они остались от того далекого, по времени, состояния, когда люди, населявшие эти места, говорили на самодийском койбальском языке. Диалектичность ситуации заключается в том, что именно наличие этого набора специфических явлений позволяет относить койбальский говор хакасского языка к числу идиом.
Список литературы Самосознание носителей и специфика в лексике, фонетике, грамматике (к обоснованию понятия "язык-идиома")
- Кузнецова А.И. Селькупы Туруханского района Красноярского края на рубеже II и III тысячелетий (социолингвистическая ситуация и языковые изменения) / Воронежский государственный университет. - Воронеж, 2007. - 114 с.
- Урманчиева А.Ю. Сходство нарративных стратегий нганасанского языка и среднетазовского говора селькупского (о возможной корреляции лингвистических и этнографических данных) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. - 2018. - №1 (19). - С. 59-68.
- Рожанский Ф.И., Маркус Е.Б. О статусе нижнелужского диалекта ижорского языка среди родственных идиомов // Лингвистический беспредел-2: Сборник научных трудов к юбилею А.И. Кузнецовой. - М.: Изд-во Московского университета, 2013. - С. 219-232.
- Урманчиева А.Ю. Параллельное развитие хантыйского и селькупского в "остяцком" ареале. I. Фонологические системы // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. - 2019. - №2 (24). - С. 85-101.
- Образцы речи койбалов (Тексты записаны, переведены и подготовлены к печати Анжигановой О.П.) // Хакасская диалектология / Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. - Абакан, 1992. С. 174-182.