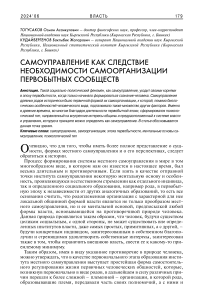Самоуправление как следствие необходимости самоорганизации первобытных сообществ
Автор: Тогусаков О.А., Кудайбергенов Б.Ж.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Такой социально-политический феномен, как самоуправление, уходит своими корнями в эпоху первобытности, когда только начинало формироваться сознание человека. Самоуправление древних родов исторически было первичной формой их самоорганизации, к которой, помимо биологических особенностей человеческого вида, подталкивало также множество других факторов. Именно в древние времена, во многом благодаря длительности первобытной эпохи, сформировался психологический тип, направленный на внутренние интересы общины и предрасположенный к системе власти и управления, которую в принципе можно определить как самоуправление. В статье обосновывается данная точка зрения.
Самоуправление, самоорганизация, эпоха первобытности, ментальные основы самоуправления, психологический тип
Короткий адрес: https://sciup.org/170207650
IDR: 170207650 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-179-184
Текст научной статьи Самоуправление как следствие необходимости самоорганизации первобытных сообществ
О чевидно, что для того, чтобы иметь более полное представление о сущности, формах местного самоуправления и о его перспективах, следует обратиться к истории.
Процесс формирования системы местного самоуправления в мире в том многообразном виде, в котором нам он известен в настоящее время, был весьма длительным и противоречивым. Если взять в качестве отправной точки института самоуправления некоторую ментальную основу и особенность, проявляющуюся в естественном стремлении как отдельного индивида, так и определенного социального образования, например рода, в первобытную эпоху к независимости от других аналогичных образований, то есть все основания считать, что родоплеменная организация с характерной для нее локальной общинной формой власти является не только прообразом местного самоуправления, но и ее ментальной основой, предпосылкой любой формы власти, основывающейся на противоречивой природе человека. Данная природа проявляется таким образом, что человек, будучи существом целиком социальным, с одной стороны, не может существовать вне определенных институтов власти, даже самых простых, примитивных, а с другой, – будучи конкретным индивидом, заинтересованным в собственном благополучии и стремящимся удовлетворить собственные интересы, заинтересован также в том, чтобы ограничить внешнюю власть, свести ее к какому-то приемлемому минимуму.
Таким образом, имея в виду указанное противоречие в природе человека, можно утверждать, что в качестве первоначального этапа образования института местного самоуправления выступает простейшая форма самостоятельного регулирования жизни первичных человеческих общностей, которые, возникнув первоначально в виде родов, в дальнейшем в силу различных причин перешли к более сложной – племенной – организации, в которой рода, образовывавшие племя, передавали часть своих полномочий, а с ними и часть власти вышестоящей структуре в общей иерархии власти. Несмотря на то что, как утверждает российский исследователь А.И. Ковлер, родоплеменная форма организации власти еще «не самоуправление в его полноценном качестве, но его начало» [Ковлер 1995: 9], тем не менее в данной форме, как представляется, в достаточно очевидном виде выражается сама природа власти и в известной мере самоуправления как ее разновидности.
Самоуправление, как и власть, является имманентной чертой как индивида, так и общества в целом, и поэтому, если рассматривать историю человечества с точки зрения эволюции форм власти, оно было исторически первой – естественной, если так можно выразиться, – властной формой. Ее, как нам представляется, следует рассмотреть более подробным образом, поскольку именно в первобытные времена формировались современные основы психологии человека, а с ней, разумеется, и психология власти, предполагающие определенное ее понимание и отношение к ней людей. В данной связи будет уместным привести следующую мысль Ф. Ницше: «Все философы обладают тем общим недостатком, что они исходят из современного человека и мнят прийти к цели через анализ последнего. Непроизвольно им предносится “человек” вообще, как… неизменное во всеобщем потоке, как надежное мерило вещей. Однако все, что философ высказывает о человеке, есть, в сущности, не что иное, как свидетельство о человеке весьма ограниченного промежутка времени. Отсутствие исторического чувства есть наследственный недостаток всех философов. Они не хотят усвоить того, что человек есть продукт развития, что и его познавательная способность есть продукт развития, тогда как некоторые из них хотят даже вывести мир из этой познавательной способности. Но все существенное в человеческом развитии произошло в первобытные времена, задолго до тех 4 000 лет, которые мы приблизительно знаем; в этот последний промежуток человек вряд ли сильно изменился» [Ницше 1997: 240].
Следует уточнить, что любой социум независимо от его характера, времени его существования не может существовать без и вне властных отношений, поскольку власть является основным элементом самоорганизации социума. С другой стороны, к самоорганизации людей подталкивало ранее и подталкивает в настоящее время множество факторов, и хотя эти факторы непрерывно менялись во времени в связи с изменением условий жизни, очевидно, что для того чтобы выжить и социализироваться, люди должны определенным образом организовываться.
Очевидно, что природа создала человека таким образом, что к самоорганизации его подталкивают в первую очередь его биологические особенности. Однако эти особенности хотя и были первичными и основополагающими, но далеко не единственными факторами, подталкивающими людей к сплочению и организованному существованию. Древним людям, в силу отсутствия у них необходимых знаний и навыков еще не способным вырабатывать необходимый общественный продукт в достаточном количестве, необходимо было совместно действовать, чтобы охотой и собирательством добыть еду, организовать более или менее приемлемый кров. Сделать это в одиночку или даже ценой усилий нескольких людей не представлялось возможным. Более того, обстоятельства для древних людей практически изначально сложились таким образом, что они должны были бороться за свое существование не только с природными стихиями, хищными животными, болезнями и пр., но и с другими людьми, которые, будучи разделенными на различные роды, неизбежно конкурировали между собой за территории, более благоприятные для жизни.
Еще в первобытный период истории у людей, наделенных сознанием, сформировалась мифологическая картина мира, в которой, как отмечает современный российский исследователь Я.Г. Шемякин, человек «был полностью подчинен природным ритмам, индивид растворялся в общественном целом, а традиционная сторона культуры подавляла инновационную. Подобное решение основных вопросов жизни вело к жесткому ограничению духовного горизонта человека, к тенденции замыкаться в рамках опыта собственного коллектива. Ярче всего это проявилось в формировании в первобытную эпоху социально-психологического комплекса “они и мы” или “мы и они”» [Шемякин 2003: 42]. Суть данного комплекса в краткой форме выражалась следующим образом: «“мы”, то есть члены данного рода, племени или иной общности, – это и есть “настоящие люди”, в то время как “они”, то есть все, кто принадлежит к иным, не похожим на “нас”, разновидностям человеческого рода, – не люди или, во всяком случае, не вполне люди» [Шемякин 2003: 42].
Следует подчеркнуть, что в рамках данного социально-психологического комплекса «они и мы» прошла подавляющая часть истории человечества. Более того, мы, современные люди, в определенной мере продолжаем существовать в рамках данного комплекса, принципа, установки, парадигмы, которая в настоящее время, может быть, не носит такой ярко выраженный и четкий характер, какой она носила в первобытные времена, однако не потеряла своей актуальности. Границы между «они» и «мы» стали более размытыми, при том что понятие «они» и «мы» значительно расширилось и переросло в гораздо более крупные образования – этносы, нации и народы. Однако сам принцип разграничения людей сохранился. Что же касается местных сообществ в современном мире, то они действуют в рамках локации, территориального принципа и интересов данных сообществ. Такая фундаментальная категория и феномен, как интерес, не утратил своей основополагающей роли и значения для локальных образований.
Тем не менее психология и то, что в настоящее время принято определять как подсознание, т.е. психические процессы, протекающие без непосредственного отображения в сознании и без прямого осознаваемого управления, сформировались задолго до возникновения первых государств цивилизаций, и они, как мы утверждали ранее, предрасположены к замыканию общностей на самих себе и к самоуправлению и самостоятельности, если последние не угрожают их существованию.
Повседневная жизнь каждой общины, представлявшей, как правило, определенный круг людей, находившихся во взаимном родстве, проходила по определенным правилам и принципам, направленным, в конечном счете, на координацию и согласование действий каждого из членов общины, что обеспечивало выживание общины и именно таким образом – каждого его члена.
«На протяжении длительнейшего периода жизни человечества, – писал Ф. Ницше, – ничто не внушало большего страха, чем чувство самоизоляции. Быть одному, чувствовать в одиночку, не повиноваться, не повелевать, представлять собою индивидуум – это было тогда не удовольствием, а карой; “к индивидууму” приговаривались. ‹…› Быть самим собой, мерить самого себя на свой аршин – тогда это противоречило вкусу. Склонность к этому, возможно, сочли бы безумием, ибо с одиночеством были связаны всякие беды и всякий страх. Тогда “свободная воля” тесно соседствовала с нечистой совестью, и чем несвободнее действовали, чем более выговаривался в поступках стадный инстинкт, а не личное чувство, – тем моральнее оценивали себя» [Ницше 1997: 588-589].
Суть в том, что индивид не мог выделить себя из общины, поскольку это было равноценно гибели. Вот что, к примеру, пишет Г.А. Мукамбаева о жизни енисейских кыргызов в традиционный период истории: «В нормативную систему енисейских кыргызов входили такие социальные нормы, как: обычаи... моральные нормы, религиозные нормы, эстетические нормы, правовые нормы... силой, поддерживающей и контролирующей их действие, были род, племя, они обеспечивались авторитетным мнением сородичей, старейшин рода, убеждением и принуждением всего рода, жили и сохранялись в сознании людей, выражали волю рода, племени… Власть общинного мнения у кочевых народов азиатской расы имела силу закона, такой она оставалась долгое время, вплоть до наших дней... У древних кыргызов соблюдение обычаев поддерживалось силой мнений старейшин, и к нарушителям применялись меры принуждения вплоть до применения в виде наказания смерти или принудительного изгнания из рода, что в те времена часто равнялось смерти, так как в чужой среде без пищи и поддержки трудно было выжить» [Мукамбаева 2004: 225-226].
В условиях крайней и длительной ограниченности ресурсов, которая усугублялась практически перманентной враждой между соседствующими родами и племенами, борьбой за эти ресурсы, самостоятельность первобытных общин была, по сути, тождественна самоорганизации и самоуправлению. Первобытные люди, не обладая необходимыми знаниями и навыками, не могли производить избыточный продукт, на основе которого, как известно, на более поздней фазе развития человечества возникла частная собственность, которая, в свою очередь, стала фундаментом для формирования первых государств. Но до этого все произведенные или большей частью добытые блага принадлежали общине. Неслучайно поэтому этот период истории довольно часто определяют как первобытный коммунизм, который существовал на основе относительно равномерного распределения общественного продукта между членами самостоятельных и самоуправляемых общин.
Ограниченность возможностей людей вынуждала их упорно воспроизводить одни и те же однажды усвоенные привычные и в этом смысле понятные образцы поведения, которые по большей своей части подвергались сакрализации, которая имела обратную свою сторону, проявляющуюся в установлении строгого табу на любого рода нововведения, что было не только неизбежно, но и вполне оправдано, поскольку обеспечивало устойчивое ментальное состояние первобытных общностей. Если сравнивать характерные фазы развития человечества по их продолжительности, то первобытная эпоха окажется несопоставимо длительней, чем все остальные, причем вместе взятые. В течение тысячелетий мир первобытного человека – как внешний, так и внутренний – не претерпевал сколько-нибудь серьезных изменений. «Сравнивая наскальную ориньякскую живопись, – писал известный историк религий А.В. Мень, – относящуюся примерно к 25-му тысячелетию до н.э., и фрески Сахары 6-го тысячелетия, мы видим все один и тот же мир: угон скота, охота на диких животных, праздники, магические пляски женщин и воинов» [Мень 1991: 62].
Следует обратить внимание, что все то, о чем писал А.В. Мень, относится к периоду истории человечества, который с точки зрения обретения различных благ и способов хозяйствования можно условно определить как непроизводящий, присваивающий. В этот период организация в общинах естественным образом находилась на крайне низком по нынешним меркам институциональном уровне. Об этом можно довольно достоверно судить, в частности, по жизни и описанию сохранившихся до настоящего времени племен, которые обитают в Африке, Южной Америке и в других частях света и которым свойственен «один и тот же мир». Если попытаться кратко охарактеризовать эти племена с точки зрения регулирования их внутренней жизни, то их вполне можно определить как самоуправляемые.
В определенный момент истории люди обрели тот объем знаний и трудовых навыков, который позволил им сделать существенный скачок, революцию в своем развитии. И хотя такой скачок осуществили далеко не все народы Земли, тем не менее оказалось достаточным, чтобы это сделали несколько этносов или, вернее, несколько протоэтнических образований, которые стали определять в дальнейшем характер развития всего человечества.
Суть в том, что, благодаря новым знаниям и навыкам, возникло сельское хозяйство, если под последним понимать сельскохозяйственную обработку и эксплуатацию земли, благодаря чему люди стали стабильно производить избыточный общественный продукт, причем не только продовольствие, но и все, что тем или иным образом связано с ним. Численность людей резко возросла, возникли крупные сословия, а затем на их базе – классы. Роды и племена стали, по сути, препятствием для дальнейшего развития новообразованных сообществ, которые возникли на основе разложения родоплеменных связей и для своего благополучного и безопасного существования сформировали первые государства, которые основывались на централизованной системе общественно-политического управления и отвергали, по возможности, любую форму самоуправления. Регулирование общественных отношений в государстве стало осуществляться главным образом на классовой основе, интересы общества стали поляризироваться на основе классовых интересов, а новообразованные органы власти отражать в первую очередь эти интересы. Однако самоуправление не прекратило свое существование, оно только утратило свое господствующее положение в общей системе управления, уступив место государственной форме, было вытеснено на задний план. По мере эволюции самого государства самоуправление в определенной мере и смысле было реабилитировано, но на первых порах самоуправление настолько ушло в тень государства, что почти прекратило свое существование. И хотя оно было частично восстановлено в правах, но по сей день находится под контролем государства. И поэтому совершенно права Л.Е. Лаптева, утверждая, что естественный с точки зрения права характер «самоуправление носит только в традиционной общине, а все другие его формы так или иначе опосредованы государственным актом» [Лаптева 1996: 49].
С момента возникновения первых государств и цивилизаций история самоуправления стала историей взаимоотношений и взаимодействия между локальными сообществами и государством, которое было и является условием, силой и формой объединения различных социальных, территориальных и этнических образований в одно целое.
Список литературы Самоуправление как следствие необходимости самоорганизации первобытных сообществ
- Ковлер А.И. 1995. Генезис и становление самоуправления. - Институты самоуправления: историко-правовое исследование. М.: Наука. С. 4-14.
- Лаптева Л.Е. 1996. Самоуправление в Российской государственной традиции. - Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновления. М.: Изд-во Института государства и права РАН. С. 48-56.
- Мень А. 1991. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 2. Магизм и Единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей. М.: СП "Слово". 462 с.
- Мукамбаева Г.А. 2004. Манас и право. Бишкек. 336 с.
- Ницше Ф. 1997. Сочинения в 2-х т. Т. 1 (сост., ред. изд., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна; пер. с нем.). М.: Мысль. 829 с.
- Шемякин Я.Г. 2003. В поисках смысла. Из истории философии и религии: книга для чтения. М.: Рипол Классик. 432 с.