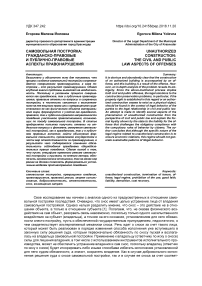Самовольная постройка: гражданско-правовые и публично-правовые аспекты правонарушения
Автор: Егорова Милена Йолевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Безусловно и абсолютно ясно для понимания, что процесс создания самовольной постройки сопровождается совершением правонарушения, а сама постройка - это результат правонарушения. Однако глубокий анализ проблемы выявляет ее неоднозначность. Поскольку в указанном процессе совершаются как гражданские, так и публичные правонарушения, правовые ответы на вопросы о сохранении постройки, в частности связанные с возникновением на нее вещного права или с прекращением существования ее как физического объекта материального мира, формируются с учетом как гражданско-правовой, так и публично-правовой направленности поведения участников правоотношений, возникающих по поводу самовольной постройки. В статье предпринята попытка получить ответы на отдельные вопросы о феномене, именуемом самовольной постройкой, как в гражданском, так и в публичном правовых аспектах; найти объяснение формальной лояльности, проявляемой государством в части мер ответственности за правонарушение, в результате чего подвергается сомнению обязательность соблюдения гражданами общеобязательных правил поведения. Сделан вывод о том, что пусть специфика правового режима самовольной постройки и призвана, по мнению автора, обеспечить экономические отношения, тем не менее сам режим не должен позволять формироваться устойчивым моделям противоправного поведения.
Самовольная постройка, прекращение владения, правонарушение, правовой режим, запрет использования, добросовестность, ответственность, снос, возмещение затрат
Короткий адрес: https://sciup.org/149132355
IDR: 149132355 | УДК: 347.242 | DOI: 10.24158/pep.2018.11.20
Текст научной статьи Самовольная постройка: гражданско-правовые и публично-правовые аспекты правонарушения
Свое исследование мы начнем с анализа одного из предусмотренных в отношении самовольной постройки последствий. Очевидно, что снос имеет целью устранение лица от владения самовольной постройкой. Однако нельзя разделить мнение, что снос – это действие не в отношении объекта, а только в отношении субъекта [1]. Полагаем, что, не оказав физического воздействия на сам объект, разорвать связь невозможно, поскольку только одного насильственного воздействия на субъект (владельца), а точнее на его сознание, установлением для него обязанности снести постройку, пусть и обеспеченной государственным принуждением, недостаточно, о чем свидетельствует альтернативный механизм сноса. Речь идет о сносе за счет такого лица, который может быть реализован в порядке изменения способа исполнения уже вступившего в законную силу решения суда, которым первоначально обязанность по сносу пускай и возлагалась на владельца самовольной постройки. Применение к владельцу (ответчику по иску о сносе) силы для лишения владения, в том числе с использованием инструментов исполнительного производства, может не обеспечить устранение владения и сам снос, поскольку владелец (ответчик по иску о сносе) будет игнорировать либо иными способами избегать исполнения установленной для него судом обязанности, а значит, сохранять владение. Как в случае добровольного исполнения решения суда о сносе самовольной постройки, так и в случае ее сноса за счет соответ- ствующего лица владение прекратится одновременно с моментом начала ее физического уничтожения, т. е. не будет предшествовать моменту уничтожения. Правильнее обозначить снос как действие, направленное на само владение, являющееся внешним выражением связи объекта и субъекта. При этом смыслом процедуры сноса, как юридическим, так и практическим, является прекращение существования обстоятельств реальной действительности, характеризующихся состоянием владения результатом самовольного строительства и воспринимаемых в качестве факта, т. е. прекращение распознавания внешнего выражения такого владения.
Допускаем, что в порядке оппонирования изложенной точке зрения о прекращении владения можно будет услышать о том, что при признании права собственности на самовольную постройку одного только воздействия на владельца самовольной постройки без воздействия на объект достаточно для его устранения от владения. Конечно, поведение вещного владельца земельного участка, направленное на приобретение права собственности на самовольную постройку для цели установления своего собственного владения, обеспеченного легальным правом, предполагает устранение владеющего субъекта и обеспечивает прекращение первоначальной связи «субъект - объект». Однако в этом случае воля и поведение владеющего субъекта (правонарушителя) обусловлены не угрозой насилия, а меркантильностью и ее частным проявлением, таким как корысть, которая удовлетворяется предоставляемым ему возмещением расходов на постройку. Таким образом, прекращение владения при сносе самовольной постройки в любом случае требует воздействия на объект, которое может быть осуществлено не только против воли ее владельца с возложением на него обязанности по сносу, но и без его участия (помимо воли и сохраняющегося владения), т. е. в ситуации, когда юридическое воздействие на него не возымело необходимого эффекта, а обязанность по сносу осталась неисполненной.
В ходе рассуждений уместно заметить, что административный снос не только вступает в противоречие с основами действующего российского права, на что указывает К.И. Скловский [2], но и лишен практического смысла, поскольку не обеспечен государственным принуждением, а без такого принуждения оказать необходимое и достаточное воздействие на владеющее лицо решением о сносе самовольной постройки, принимаемым органом местного самоуправления (далее - ОМС), попросту невозможно.
Нельзя оставить без внимания закрепленное в законе возмещение расходов на постройку в случае признания права собственности на нее за вещным владельцем земельного участка. Учитывая то, что при создании или возведении самовольной постройки совершается целый ряд правонарушений, в частности при строительстве на чужом земельном участке предметом такового является земельный участок, не принадлежащий правонарушителю, возмещение расходов представляется юридическим парадоксом, поскольку в случае сноса, а это закономерное следствие поведения самовольного застройщика с позиции восприятия самовольной постройки как материального результата совершенного правонарушения, лицо, создавшее постройку, ощущает исключительно негативные последствия своего поведения, так как даже при самостоятельном сносе материалы, из которых создана постройка, будут подвержены разрушающему физическому воздействию и часть из них, скорее всего, безвозвратно утратит свои свойства, которые позволили бы использовать их снова при строительстве. Даже если процесс сноса будет больше представлять собой разборку на составные части, элементы, чего позволяют достичь современные технологии, инструменты (механизмы) и свойства строительных материалов, создатель самовольной постройки должен будет понести значительные финансовые затраты для обеспечения аккуратного технологичного демонтажа конструктивных элементов самовольной постройки и перемещения материалов. В то же время в случае признания права собственности на самовольную постройку за вещным владельцем земельного участка законодательно обеспечено возмещение расходов на постройку, т. е. в этом случае для правонарушителя фактически не возникает негативных последствий, так как эфемерная де-факто связь с постройкой замещается при разрешении спора связью с затратами, имеющей юридическое выражение. Вместе с тем признание за вещным владельцем земельного участка и никем иным, кроме него, права собственности на самовольную постройку возможно лишь с соблюдением условий, закрепленных в п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. Применительно к этому предлагается рассмотреть модели взаимоотношений, при которых возможно создание самовольной постройки на чужом земельном участке.
Итак, первая модель, когда между вещным владельцем земельного участка и застройщиком устанавливаются имущественные связи с возникновением соответствующих правоотношений (аренда и иные допустимые в силу закона), порождает несколько вопросов, обусловленных поведением вещного владельца, а именно:
-
- Можно ли признать добросовестным поведение, при котором титульный владелец пассивно и безучастно относится к тому, что происходит на принадлежащем ему участке, не потворствует ли он созданию самовольной постройки? (Сразу оговоримся, что для случаев, когда самовольная постройка осуществлена лицом, которому принадлежит земельный участок, или если
законным владельцем земельного участка является муниципалитет, органы которого осуществляют выдачу разрешений на строительство, а также функции муниципального контроля, поставленный вопрос становится риторической фигурой.)
-
- Почему вещный владелец допускает бесконтрольное поведение лица, создающего самовольную постройку, и, как следствие, не способствует ли само поведение титульного владельца совершению правонарушения?
На практике вещный владелец земельного участка часто становится субъектом права собственности, в основе которого не только противоправное поведение лица, создавшего самовольную постройку, но и неоднозначное поведение самого лица, предоставившего свой земельный участок для застройки. При этом в случае, когда поведение распознается как недобросовестное, следует не забывать о том, что добросовестность - это принцип, а не признак, в частности правонарушения, что не исключает его применение судом в соответствующем публичном юридическом процессе, даже с учетом всей неопределенности понятия добросовестности как принципа гражданского права [4].
Вторая модель взаимоотношений - это случай, когда вещный владелец земельного участка в той или иной степени устранился от владения, т. е. его господство над вещью не является очевидным и распознаваемым для третьих лиц. В этом случае бесконтрольное поведение лица, создающего самовольную постройку и одновременно нарушающего владение, может быть распознано не только как проступок, совершение которого влечет гражданскую и административную ответственность, но и как уголовно наказуемое деяние .
Третья модель, но не взаимоотношений, а поведения при создании самовольной постройки, - это случаи, когда самовольная постройка создается на земельном участке, принадлежащем застройщику, который избавляет себя от необходимости получать разрешение на строительство, что также распознается как правонарушение, за совершение которого для правонарушителя должна наступать ответственность.
Вместе с тем, рассуждая в рамках первой и второй модели взаимоотношений, очевидно, что в случае признания права собственности на самовольную постройку за вещным владельцем земельного участка правонарушение (поведение лица, создавшего постройку, посягающее на имущественные гражданские и (или) публичные общественные отношения) в объеме гражданских правоотношений фактически утрачивает такой признак, как свойство порождать юридическую ответственность, поскольку для правонарушителя (лица, создавшего постройку, ответчика по иску о признании права собственности) не возникает неблагоприятных последствий, которые могли бы восприниматься как мера ответственности за правонарушение. Напротив, он получает возмещение затрат на создание постройки, которое навряд ли вызовет у правонарушителя физические, моральные и иные страдания. Несмотря на то что такой признак правонарушения, как противоправность, сохраняется, сам результат поведения, а именно созданный объект, не воспринимается в качестве негативного результата, свидетельствующего о нарушении гражданских прав законного владельца земельного участка, которое требует защиты. В то же время небезукоризненное с точки зрения права поведение вещного владельца земельного участка, не обеспечившего для себя необходимую информированность о юридических состояниях в процессе создания объекта, не создает и не может являться предпосылкой для правопритязаний на такой объект, даже если бы признание права на самовольную постройку являлось подобием односторонней «репарации», которой не корреспондировалась обязанность предоставить возмещение за создание такой постройки.
Как в первом, так и во втором из описанных вариантов поведение вещного владельца земельного участка позволяет сделать вывод, что он не заинтересован результатом использования земельного участка, а в последнем из них и вовсе не желает быть информированным о воздействии на принадлежащую ему вещь (земельный участок). Т. е. его поведение характеризуется отсутствием интереса к вещи и к результату ее использования. Так в какой момент интерес появляется и начинает проявляться, чем он обусловлен? На что направлен интерес - на обеспечение права собственности на земельный участок или приобретение вещного права на самовольную постройку?
Поведение, свойственное для третьей модели, с абсолютной очевидностью свидетельствует о совершении правонарушения, которым лицо фактически выражает презрение к общеобязательным правилам поведения, что требует применения к правонарушителю не только мер ответственности за совершение административного правонарушения, но и публичного осуждения, выражающегося в сносе воздвигнутого или созданного объекта.
Таким образом, если иск о сносе направлен на разрыв связи и прекращение владения самовольной постройкой, т. е. на устранение последствий правонарушения, каков вектор иска о признании права собственности на объект, создание которого обусловлено правонарушением, а сам предмет спора не находится в обороте и является производной правонарушения? Оба указанных иска направлены, как уже указывалось, на прекращение связи между владельцем, осуществившим постройку, и самой постройкой. Только последствия разрыва такой связи являются полярными: прекращение существования физического объекта материального мира и его сохранение с вовлечением в гражданский оборот уже в качестве объекта права. Данное явление можно охарактеризовать как проявление правовой амбивалентности.
Снос воспринимается как санкция (частноправовая или административная) [5] за совершенное правонарушение, однако пределы неблагоприятных последствий для правонарушителя нельзя назвать определенными до степени очевидности, поскольку не во всех случаях происходит именно уничтожение самовольной постройки, т. е. процесс сноса, при котором обеспечивается повреждение использованных при строительстве материалов до степени утраты ими своих практических свойств и качественных характеристик. Такой результат сноса наиболее характерен для случаев, когда владелец самовольной постройки не исполняет обязанность по сносу, возложенную на него судом, а сам снос осуществляется иным лицом за счет правонарушителя. Вместе с тем закономерен вопрос о повреждении лицом, осуществляющим снос за счет владельца (правонарушителя), имущества (отдельных строительных материалов), владение которым не сопровождается правонарушением и принадлежность которых владельцу обеспечена легальными правоотношениями (приобретение материалов по сделке). Полагаем, что в этом случае поведение лица, осуществившего самовольную постройку и не исполняющего возложенную на него обязанность по сносу, не столько свидетельствует о желании (намерении) сохранить владение постройкой, о чем указывалось выше, сколько обеспечивает распознавание того, что правонарушитель не намерен отказываться от права на имущество (строительные материалы), использованное при строительстве. Представляется, что отдельного исследования требуют вопросы о том, каковы же пределы неблагоприятных последствий при сносе и можно ли в подобной ситуации расценивать отсутствие аккуратности в обращении с имуществом лица, осуществившего постройку, также в качестве негативного последствия сноса, которое возникает за уклонение от исполнения обязанности, возложенной судом, а именно освободить участок от самовольной постройки.
В статьях по теме исследования содержится мнение о том, что признание права собственности на самовольную постройку является исключительным способом приобретения права частной собственности на новую недвижимую вещь [6]. При этом авторы ничем не объясняют и не обосновывают такую характеристику способа приобретения права, как исключительность. Согласно Обзору судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденному Президиумом Верховного суда Российской Федерации 19 марта 2014 г., признание права является исключительным способом защиты права [7].
Признание права собственности в объеме правоотношений, возникающих по поводу самовольной постройки, не является и не может быть воспринято как способ защиты права. Во-первых, отсутствует объект права, легально находящийся в обороте. Во-вторых, признанию не предшествует возникновение вещного права какого-либо лица на этот объект, что позволяло бы заявлять о нарушении такого права и формулировать требования о его защите, поскольку признание есть подтверждение в рамках формальной процедуры существования в реальной действительности юридического факта, порождающего (породившего) возникновение права. При этом признание не формирует юридических состояний, отличных от реальных событий, не имитирует и не должно имитировать юридические факты.
Представляется, что исключительность мало что может объяснить, а предоставление вещному владельцу земельного участка права обращения в суд с иском о признании права собственности есть дозволение, которое существует в рамках правового режима самовольной постройки и обеспечивает интерес этого лица, направленный на объект, распознаваемый им как материальное благо. Учитывая, что правовой режим, в том числе режим самовольной постройки, устанавливается с целью создания нужной правовой направленности соответствующих общественных отношений [8], а также то, что правовые нормы охватывают далеко не все сферы общественной жизни, а лишь те из них, которые имеют наиболее важное значение [9], попытаемся понять, чем обусловлено дозволение и какая направленность общественных отношений обеспечивается на самом деле.
В объеме рассуждений о правовом режиме самовольной постройки следует остановиться на «нужной» правовой направленности отношений, возникающих не только по поводу конечного результата строительных работ, выполняемых правонарушителем, а именно снести или сохранить, но и по поводу приобретения им строительных материалов, использования и оплаты труда лиц, обеспечивающих физический процесс создания самовольной постройки, которые являются общественными экономическими отношениями, характеризующимися товарно-денежным оборотом, а в результате легализации самовольной постройки обеспечивается еще и появление объекта налогообложения. Ход данных рассуждений позволяет сделать предположение, что с использованием права государство через устанавливаемый правовой режим обеспечивает экономические процессы, проявляя снисхождение к совершаемому правонарушению. Вместе с тем подобный подход чреват формированием устойчивой модели поведения как физических, так и юридических лиц, основным недостатком которого является отрицание права как регулятора общественных отношений, поскольку самовольное строительство является действием, совершаемым вопреки, невзирая ни на что, демонстрирующим неуважение и игнорирование закона. Следует сделать акцент на том, что подобное поведение нельзя оценить как совершаемое по неосторожности, поскольку лицо, его допускающее, заранее информировано о том, что такое поведение является недопустимым, а сама информированность обеспечена презумпцией общеизвестности источников, устанавливающих соответствующие правила поведения. Таким образом, поведение правонарушителя, оказывающее влияние на формирование общественных экономических отношений, обусловливает существование самого правового режима самовольной постройки, с помощью которого в определенной степени сохраняется динамика этих общественных экономических отношений и обеспечивается публичный интерес, по сути выступающий в качестве основного при формировании режима, что можно обозначить как проявление публичной экономической доминанты, поскольку в такой ситуации даже частноправовой интерес вещного владельца земельного участка, заявляющего о притязаниях на постройку, является вторичным.
Анализируя предписание закона о недопустимости использования самовольной постройки, которое является новеллой, во взаимосвязи с еще одной новеллой, условно сократив ее обозначение в тексте настоящей статьи до «приведение в соответствие», можно сделать вывод, что государство, пытаясь предотвратить наступление негативных последствий (деликтов), которые могут возникнуть при использовании постройки, в частности при проживании в ней, хранении имущества, использовании ее для оказания услуг или выполнения работ, старается достичь согласованности существования объекта, имеющего порок создания, с действующими правовыми правилами поведения, т. е. сохранить объект в качестве безопасного и максимально обеспечить экономическую доминанту через участие вещи в гражданском обороте, а также через сопутствующие процессы (потребление ресурсов: электрическая, тепловая энергия и т. п.; приобретение предметов интерьера; последующий ремонт и т. д.), необходимые для эксплуатации вещи, а равно и через налогообложение.
При этом вынужденной является констатация того, что в случае признания права собственности на самовольную постройку не происходит устранения последствий правонарушения, а напротив, возникает ситуация, когда результат правонарушения, т. е. новый объект физического мира, своей наглядностью формирует внутреннее отношение иных субъектов (третьих лиц) к таким формам реализации права, как соблюдение и исполнение, что умаляет право и не способствует эволюции правоотношений и совершенствованию их правового регулирования.
Таким образом, завершая статью, следует заключить, что, к сожалению, правоотношения не могут быть избавлены от такого явления, как самовольная постройка, но они должны быть избавлены от излишней и ненужной терпимости и снисходительности к правонарушителю и результату его поведения, чем бы оно ни было обусловлено. Представляется, что действующее законодательство надлежит дополнить положениями об ответственности лица, создавшего самовольную постройку, меры которой действительно влекли бы для него ощутимые негативные последствия и обеспечивали претерпевание реальных лишений за совершение публичного правонарушения. К примеру, таковым может являться обращение в пользу государства определенной (большей) части возмещаемых правонарушителю титульным владельцем земельного участка расходов на постройку, что будет обеспечивать более эффективную защиту публичных интересов. Применительно к случаям, когда самовольная постройка создана титульным владельцем земельного участка, совершившим при этом публичное правонарушение, возможной мерой публичной ответственности могло бы являться ограничение в течение определенного периода времени, с момента возникновения права собственности на самовольную постройку, осуществления государственной регистрации сделок (обременений) с уже легализованным объектом, в частности когда собственник намерен использовать его в качестве предмета залога, аренды и т. п. Подобные меры ответственности позволят обозначить приоритет обеспечения публичных, а не частных интересов в отношениях, возникающих по поводу самовольной постройки.
Ссылки:
-
1. Скловский К.И. О допустимости «административного сноса» самовольного строения // Закон. 2016. № 6. С. 28–34.
-
2. Там же.
-
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : ред. от 3 авг. 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
-
4. Скловский К.И. Толкование добросовестности как обязанность суда // Закон. 2017. № 1. С. 106–109.
-
5. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М., 2004. 362 с.
-
6. Кондратенко З.К., Мустакимов Н.С. Особенности межотраслевых связей гражданского, земельного и градостроительного права в области регулирования отношений по строительству объектов недвижимости // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 229–235.
-
7. Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством [Электронный ресурс] : утв. Президиумом Верховного суда Российской Федерации 19 марта 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
-
8. Селиванов В.В. О понятии гражданско-правового режима самовольной постройки // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С. 229–233.
-
9. Туманов Д.А., Алехина С.А. К вопросу о правовом характере спора и правоспособности как предпосылках права на предъявление иска // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 95–105.
Список литературы Самовольная постройка: гражданско-правовые и публично-правовые аспекты правонарушения
- Скловский К.И. О допустимости «административного сноса» самовольного строения // Закон. 2016. № 6. С. 28-34.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ: ред. от 3 авг. 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Скловский К.И. Толкование добросовестности как обязанность суда // Закон. 2017. № 1. С. 106-109.
- Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М., 2004. 362 с.
- Кондратенко З.К., Мустакимов Н.С. Особенности межотраслевых связей гражданского, земельного и градостроительного права в области регулирования отношений по строительству объектов недвижимости // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 229-235.
- Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством [Электронный ресурс]: утв. Президиумом Верховного суда Российской Федерации 19 марта 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Селиванов В.В. О понятии гражданско-правового режима самовольной постройки // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С. 229-233.
- Туманов Д.А., Алехина С.А. К вопросу о правовом характере спора и правоспособности как предпосылках права на предъявление иска // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 95-105.