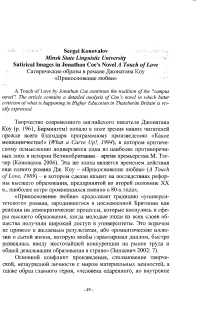Сатирические образы в романе Джонатана Коу "Прикосновение любви"
Автор: Коновалов Сергей
Журнал: Тропа. Современная британская литература в российских вузах @footpath
Рубрика: Essays on individual authors
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Прикосновение любви Джонатана Сое продолжает традицию «кампусного романа». В статье содержится подробный анализ романа Сое, в котором ярко выражена резкая критика происходящего в сфере высшего образования в Британии Тэтчер.
Короткий адрес: https://sciup.org/147230488
IDR: 147230488
Текст научной статьи Сатирические образы в романе Джонатана Коу "Прикосновение любви"
A Touch of Love by Jonathan Coe continues the tradition of the "campus novel". The article contains a detailed analysis of Coe’s novel in which bitter criticism of what is happening in Higher Education in Thatcherite Britain is vividly expressed.
Творчество современного английского писателя Джонатана Коу (р. 1961, Бирмингем) попало в поле зрения наших читателей прежде всего благодаря программному произведению «Какое мошенничество!» (What a Carve Up!, 1994), в котором критическому осмыслению подвергается одна из наиболее противоречивых эпох в истории Великобритании - время премьерства М. Тэтчер (Коновалов 2006). Эта же эпоха является временем действия еще одного романа Дж. Коу - «Прикосновение любви» (A Touch of Love, 1989) - в котором сделан акцент на последствиях реформы высшего образования, предпринятой во второй половине XX в., наиболее остро проявившихся именно в 80-х годах.
«Прикосновение любви» продолжает традицию «университетского» романа, зародившегося в послевоенной Британии как реакция на демократические процессы, которые коснулись и сферы высшего образования, когда молодые люди из всех слоев общества получили широкий доступ в университеты. Это впрочем не привело к желаемым результатам, ибо «романтические иллюзии о сытой жизни, которую якобы гарантировал диплом, быстро развеялись ввиду жесточайшей конкуренции на рынке труда и общей девальвации образования в стране» (Зинкевич 2002: 7).
Основной конфликт произведения, столкновение творческой, незаурядной личности с миром материальных ценностей, а также образ главного героя, «человека одаренного, но внутренне неприятного читателю» (Гурьянов 2003: 197), традиционны и перекликаются с «университетскими романами» К. Эмиса, М. Брэдбери, Д. Лоджа и др.
По структуре роман представляет собой дневниковые записи, сделанные всеведущим рассказчиком в период с апреля по декабрь 1986 г., причем хронологическая последовательность не соблюдается. Эти записи четыре раза прерываются серией рассказов, написанных Робином Грантом, из которых мы и узнаем о его душевных переживаниях, приведших в результате к самоубийству. Эти рассказы не связаны между собой единой сюжетной нитью, однако за разными именами их героев легко угадывается как сам Робин, так и люди, связанные с ним различными обстоятельствами. Таким образом, в определенных частях романа повествование препоручается главному герою, что дает возможность читателю всесторонне вникнуть в суть описываемых проблем и последовавших за ними трагических событий.
Робин Грант пишет диссертацию у профессора Дэвиса уже четыре с половиной года, но конца работы не видно ввиду абсолютной незаинтересованности руководителя. Отдушиной для чуткой творческой души аспиранта в недружественной среде является написание рассказов обо всем, что наболело за годы обучения. Эти рассказы, впрочем, нигде не опубликованы (кстати, в большинстве романов Дж. Коу кто-нибудь из главных героев занимается сочинительством), что еще больше удручает молодого человека. Все это усугубляется сложной обстановкой в стране, что очевидно в его первом рассказе «Встреча разумов» в поднимаемых в переписке Ричарда (одного из alter ego Робина) с героиней по имени Карен тем: «политика, падение жизненного уровня, сексизм» и т.д. (Сое 2005: 40)5. Одновремнно у читателя возникает стойкое ощущение того, что британцы, привыкшие к конфликтам, в которые вовлечена их страна, и сопутствующим им жертвам, стали чрезвычайно безразличны ко всему происходящему. Так, смотря новости о событиях в Северной Ирландии, Ричард так и не понял, «то ли солдата разорвало на куски, то ли двух мирных жителей хладнокровно расстреляли возле их собственного дома, то ли близнецов убили на глазах матери» (Сое 2005: 36). Сарказм автора приводит к выводу, что даже чуткие люди устают и становятся менее восприимчивыми к трагедиям, когда их слишком много и приходят они слишком часто. А что уж говорить об изначально безразличных?
Важную роль в романе играет образ аспирантки из Индии Апарны. Ее жизнь в этом же университете города Ковентри складывалась отнюдь не легче, чем у Робина. Работа над диссертацией об индийских писателях, содержащей ряд тезисов, противоречащих принятой в Англии точке зрения, также зашла в тупик не без помощи научного руководителя доктора Корбетта, который в течение шести лет заставлял Апарну «начинать заново, переписывать, вновь начинать заново и вновь переписывать» (Сое 2005: 170). В результате, назвав ее работу «излишне эмоциональной и агрессивной» (Сое 2005: 171), он пригласил ее к себе на ужин и, намекнув, что его жена уехала в Америку к кузине, предложил решить ее вопрос у себя дома в интимной обстановке.
Здесь Дж. Коу обращается к проблеме расизма в Англии, имеющей давнюю историю и по-прежнему актуальной сегодня. В последнем диалоге с Робином Апарна с сарказмом констатирует неспособность англичан признать право личности у людей из бывших колоний, а уж тем более право на научную карьеру: «Все, что Корбетт хочет от меня, - это чтобы я была колоритной и экзотической, чтобы я ходила по улице в сари и пиликала на наших традиционных инструментах. Он не хочет знать правды о моей стране — никто из вас не хочет! Он не хочет признать, что в вашем городе (Ковентри. - К.С.) проживает многочисленная диаспора из азиатских стран» (Сое 2005: 171). Подобное отношение к Апарне мы видим и в некоторых других эпизодах романа. Так, первая встреча Тэда с Апарной гротескно описывается автором: «Женщина вздрогнула, обернулась, и Тэд с ужасом обнаружил, что она индианка» (Сое 2005: 8). Гиперболизированный ужас свидетельствует о враждебном и настороженном отношении англичан к иммигрантам. Да и сам Робин, может быть, и бессознательно выразил явное удивление, когда Апарна показала ему книгу индийского писателя, над которой размышляла.
О развязке в судьбе Апарны мы узнаем из послесловия к роману, написанного от ее имени. Бесперспективность диссертационного исследования, самоубийство Робина и общее враждебное отношение к иммигрантам в тэтчеровской Британии не оставили ей другого выбора, как бросить все и вернуться в Индию. Это решение, как нам кажется, можно в какой-то мере сопоставить с поступком Робина, ибо ее возвращение домой означало фактическое самоубийство, хоть не физическое, но профессиональное: так и не состоявшаяся диссертация, на которую было потрачено шесть лет, означала для нее крушение всех надежд. И, естественно, нельзя сказать, что она возвращалась на родину с радостью, ибо родина не могла ей дать тех возможностей для самореализации, какие она надеялась получить в Англии. И не случайно ее последними словами в романе были следующие: «Я представляла лица своих отца и матери со смешанным чувством желания их увидеть и страха. Я не забыла, что дом может быть самым чужим местом на земле» (Сое 2005: 232).
Если судьбы Робина и Апарны представлены в драматическом ключе, то объектом сатиры Дж. Коу становится профессор Дэвис - собирательный образ консервативной вузовской элиты, не способной на динамичный переход от традиционных устоев к требованиям современности. В случае с Дэвисом его неадекватность усугубляется почтенным возрастом, некоторой рассеянностью и забывчивостью. По словам коллеги Дэвиса доктора Корбетта, «он постоянно забывал то, о чем должен был говорить, и студенты на него всегда жаловались» (Сое 2005: 190).
Появившись в кафе, где обедали Корбетт и Хаг, Дэвис, ищущий работу уже несколько лет, повел себя по-профессорски: «положил сахар в кофе, съел почти половину куска торта, высморкался и, в задумчивости глядя на всех, заметил: «Как сегодня мокро» (Сое 2005: 191). Затем, «дабы избежать малейшего недоразумения, он добавил: «На улице» (Сое 2005: 191). И чуть позже, чтобы расставить все точки над «и», Дэвис, с «тщательностью выбирая слова», изрекает: «В такую погоду нужен зонтик» (Сое 2005: 191). Гротескность этого персонажа нарастает по ходу разговора. Среди важнейших событий 1986 года Дэвис выделяет продажу компании «Вестланд», бомбежку Ливии, аварию на Чернобыльской АЭС и ... протекшую крышу в столовой для преподавателей. О самоубийстве Робина, своего аспиранта, с которым он встречался не чаще одного раза в год, он даже и не вспомнил. И уж тем более он не вспомнил, о чем была диссертация, которой руководил, характеризуя ее набором ничего не значащих клише: «Ну, она охватывала широкий круг литературоведческих вопросов и рассматривала различные точки зрения по этим вопросам» (Сое 2005: 192). На вопрос о том, был ли подход Робина теоретическим или практическим, Дэвис сначала говорит, что он был теоретическим, а потом замечает, что в принципе он был и практическим. И, наконец, заключает: «Вообще, его работа так и не оформилась в нечто целое. У Робина были явные трудности с выражением своих мыслей на бумаге» (Сое 2005: 192). Примечательно, что то же самое сказал о своей аспирантке Апарне и Корбетт, автор, как с иронией отмечает Дж. Коу, выдающегося труда «Психология женского творчества» (Сое 2005: 189).
Ироническим пафосом наполнена и характеристика деятельности Дэвиса как литературного критика в другой сцене романа. По словам Хага, «его новая книга «Крах современной литературы» содержит радикальное и вызывающее переосмысление последних двадцати лет. Критики приветствовали ее как логическое продолжение более раннего труда Дэвиса «Культура в кризисе», содержавшего радикальное и вызывающее переосмысление предыдущих двадцати лет» (Сое 2005: 56). Дословное повторение отзыва на первую книгу Дэвиса при характеристике второй свидетельствует об отсутствии в научной деятельности профессора каких-либо новых идей. Кроме того, какие именно кризисные явления в литературе имеет в виду Дэвис, узнать так и не удается, ибо при вопросе Хага, означают ли работы Дэвиса фактический крах гой традиционной литературы, которая преподается в школах и университетах, перед читателем разворачивается полная комизма сцена, где главным действующим лицом выступает, естественно, профессор Дэвис: «Нет, нет, ни в коем случае! Я думаю - тут воцарилась торжественная пауза, безусловно превосходящая все предыдущие - я думаю...» Вдруг он поднял глаза, и в них сверкнул огонь. В воздухе стояло такое напряжение, что его можно было даже пощупать. «Я думаю, почему бы мне не съесть еще одно миндальное печенье?» (Сое 2005: 58). Контраст между ожидаемым от Дэвиса научным тезисом и его крайне тривиальной фразой усиливает гротескность этого образа.
При помощи сатирических образов Дэвиса и Корбетга Дж. Коу вскрывает порочность и тупиковость послевоенной системы массового образования в Британии, наиболее негативные плоды которой резко проявились в эпоху тэтчеризма, когда уровень безработицы и общей неустроенности был наиболее высоким ввиду серьезного недофинансирования этой сферы. А полнейшее равнодушие научной элиты к судьбам тех, за которых она несет долю ответственности, часто, как показывает Дж. Коу, усугубляет драматизм положения университетской молодежи. ■
Список литературы Сатирические образы в романе Джонатана Коу "Прикосновение любви"
- Гурьянова Ю.Н. «Мир меняется, но человеческая природа остается прежней» (к вопросу об университетской прозе М. Брэдбери) // Проблемы истории литературы: сб. статей. - Выпуск 17. - М., Новополоцк: Институт славяноведения РАН, Московский открытый педагогический университет, Полоцкий государственный университет, 2003.
- Зинкевич Н.А. Кингсли Эмис. Многогранность таланта // Amis, К. Lucky Jim. - М.: Tsitadel, 2002.
- Коновалов СМ. Эпоха тэтчеризма в сатирическом романе Джонатана Коу «Какое мошенничество!» // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. - 2006. - № 4 (24).
- Сое J. A Touch of Love - London: Penguin Books, 2005.