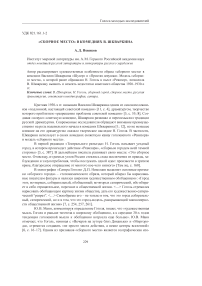"Сборное место" в комедиях В. Шкваркина
Автор: Новиков Алексей Дмитриевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает художественные особенности образа «сборного места» в комедиях Василия Шкваркина «Шулер» и «Простая девушка». Модель «сборного места», к которой ранее обращался Н. Гоголь в пьесе «Ревизор», позволила В. Шкваркину выявить и осмеять недостатки советского общества 1920-1930-х гг.
В. шкваркин, н. гоголь, сборный город, сборное место, русская драматургия, советская комедиография, сатира
Короткий адрес: https://sciup.org/146281496
IDR: 146281496 | УДК: 821.161.1-2
Текст научной статьи "Сборное место" в комедиях В. Шкваркина
Критики 1930-х гг. называли Василия Шкваркина одним из основоположников «подлинной, настоящей советской комедии» [11, с. 4], драматургом, творчество которого приблизило «разрешение проблемы советской комедии» [5, с. 55; 8]. Создавая «новую» советскую комедию, Шкваркин развивал и переосмыслял традиции русской драматургии. Современные исследователи обращают внимание преимущественно на роль водевильного начала в комедиях Шкваркина [1; 12], но не меньшее влияние на его драматургию оказало творческое наследие Н. Гоголя. В частности, Шкваркин использует в своих комедиях сюжетную канву гоголевского «Ревизора» и модель «сборного места».
В первой редакции «Театрального разъезда» Н. Гоголь называет уездный город, в котором происходит действие «Ревизора», «сборным городом всей темной стороны» [3, с. 387]. В дальнейшем писатель развивает свою мысль: «Это сборное место. Отовсюду, из разных углов России стеклись сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы послужить одной идее: произвести в зрителе яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого» [Там же, с. 160].
В монографии «Сатира Гоголя» Д. П. Николаев выделяет основные признаки «сборного города» – «топонимического образа, который вбирал бы нарисованные писателем фигуры и являлся широким художественным обобщением»: «Город этот, во-первых, собирательный, обобщенный; во-вторых сатирический, ибо вбирает в себя отрицательное, порочное в общественной жизни. <…> Гоголь стремился нарисовать обобщающую картину жизни общества, дать его художественно-сатирический “разрез”. <…> Своеобразие его – не только в том, что это город собирательный, сатирический, но и в том, что это город-модель, раскрывающий закономерности общественной жизни» [7, с. 254, 257, 261].
Ю. В. Манн, комментируя определение Гоголя, пишет, что «художественная мысль Гоголя и раньше тяготела к широкому обобщению, а к середине 30-х годов тенденция гоголевской мысли к обобщению возросла еще больше». Ю.В. Манн отмечает, что Гоголь, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», стремится создавать «не просто места действия, а некие центры вселенной» [6, с. 16–17]. Одним из признаков «сборного места» является географическая изо- лированность, позволяющая автору «собрать в одну кучу все дурное в России» [2, с. 440].
В основе сюжета первых комедийных пьес Василия Шкваркина лежит «путешествие» главного героя по «злачным местам» нэповской современности. В обозрении «Вокруг света на самом себе» и водевиле «Вредный элемент» автор высмеивает «лишних людей», которые разделяют дореволюционные ценности и не могут найти «свое» место в советской России. К концу 1920-х гг. Шкваркин приходит к модели «сборного места», которая необходима драматургу, чтобы сатирически изобразить недостатки современного общества. Наиболее выразительный образ «сборного места» он создает в комедии «Шулер», премьера которой состоялась 5 января 1929 г. в Студии Малого театра [9, с. 581].
«Шулер» является первым произведением Шкваркина, действие которого разворачивается в вымышленном городе, чье название – Твердовск – «говорит» о закостенелости нравов его жителей. В пьесе Шкваркин обыгрывает сюжет гоголевского «Ревизора»: молодого человека, высланного из столицы в провинциальный городок, местные жители принимают за «важную персону» и стараются всячески угодить ему. Драматург создает сатирические образы жителей города – «вредных элементов», которые видят в главном герое комедии, мелком шулере Всеволоде Без-векове, закоренелого преступника, убийцу и афериста. Автор показывает, что герой, желая «вписаться» в коллектив, начинает разыгрывать предложенную роль, но вместе с тем желает исправиться и вернуться в Москву. Главной чертой его характера является легкомысленность, которая роднит Всеволода с Хлестаковым. В ремарке Шкваркин дает характеристику речи Безвекова, отражающую присущую ему беспечность: «Как бы увлекаясь, все больше и утрированно интонирует» [14, с. 23]. В развязке персонажи узнают из письма, что все это время Безвеков был «честной сволочью» [Там же, с. 71] – оксюморон, который отражает сущность жителей Твер-довска.
Ю. В. Манн пишет, что система персонажей «Ревизора» обусловлена «стремлением охватить максимально все стороны общественной жизни и управления», поэтому «гоголевский город последовательно иерархичен, его структура строго пирамидальна» [6, с. 17, 19]. Д. П. Николаев также подчеркивает «политизированность» города, изображенного в комедии Гоголя, называя его «поразительно верной художественно-сатирической моделью существующего правления» [7, с. 262]. Сатира Гоголя была направлена на уродливые стороны государственного порядка, злоупотребления власти. Шкваркин же обличает тех, кто не желает принять новый государственный строй, поэтому в комедии «Шулер» автор не изображает представителей власти. Он подчеркивает «отрешенность» Твердовска от советской действительности, наделяя современные реалии оскорбительным для жителей города значением: «Плюну на все и приму революцию. <…> Чуждый элемент в дом приведу, на комсомолке женюсь, а она вас на каждом шагу Марксом крыть станет» [14, с. 43].
Автор высмеивает «бывших людей» – помещиков, коннозаводчиков и купцов, оставшихся на обочине истории, но считающих себя «чистокровными дворянами», «потомками старинных родов», «представителями исконной буржуазии», на которых возложена миссия «хранить моральные ценности, благородные традиции и честь» [Там же, с. 5, 9]. Сатирический эффект возникает на контрасте пафосных изречений и реального «политического веса» провинциального городишки. Твердовск – место, которое «застряло» в прошлом. Так, уже в первой сцене автор высмеивает
«дореволюционное убранство» местного «важного человека», на стенах которого висят атрибуты «былого» – «охотничьи принадлежности и портрет в уланском мундире, писанный лет 12 тому назад» [Там же, с. 4].
Шкваркин изображает нравы горожан не просто как архаичные, но как общественно вредные. Неприязнь жителей Твердовска к Всеволоду обусловлена не тем, что он нарушил закон, а тем, что, с их точки зрения, провинился он незначительно, попался «по мелочи», недостаточно сильно навредив советской власти: «Сын Николая Безвекова не может быть спекулянтом. <…> Лучше бы тебя арестовали за заговор, за убийство!» [Там же, с. 10, 11] Наибольшей остроты сатира Шкваркина достигает в финале пьесы, когда «преступнику первой величины» [Там же, с. 25] предлагают место «юрисконсультанта в крупнейшем частном предприятии»: «Счастливый случай административным порядком забросил вас в Твердовск. Вы, как сказать, первая ссыльная ласточка, рассекающая крылом туман законов. Протяните же нам вашу проворную руку» [Там же, с. 64].
Гоголь, создавая образ «мнимого ревизора», высмеивает не только уездную власть, но и петербургское чиновничество. Шкваркин, с одной стороны, сатирически изображает провинцию, где сильны еще старые предрассудки, а с другой стороны, нэповскую Москву, которая, притягивая со всей страны «шулеров» и «вредных элементов», предоставляет возможностью обогатиться. Жители Твердовска воспринимают столицу как город казино и ипподромов, авантюристов и мошенников, где просто зарабатывать нечестным путем и «пяти лет подряд честно прожить невозможно» [Там же, с. 13].
Шкваркин показывает, что жителями города движет алчность, поэтому персонажи постоянно торгуются друг с другом и конфликтуют из-за денег. Автор высмеивает «деловую хватку» жителей Твердовска. Так, заведующий городским ипподромом Ржевский сводит любую беседу к разговору о своем «деле», постоянно прибегая к «лошадиным» метафорам: «Ты резво прошел свою пятидесятипятилетнюю дорожку. Правда, после революции грунт стал тяжелым, ты сбоил и закидывался, но теперь опять пошел гладко. Желаю тебе пройти и вторую половину жизненного круга без хлыста, как и подобает чистокровному… дворянину. <…> Извините, если выразился немного по-лошадиному, я лошадей уважаю: они своих убеждений не меняют: как было у них животное царство, так и осталось – царство. <…> Я революцию принял постольку, поскольку ее мои лошади приняли» [Там же, с. 5–6]. Чтобы привлечь внимание своего отца, дочь Ржевского вынуждена сравнивать себя с «кровной кобылой» [Там же, с. 46–47], тем самым становясь в его глазах предметом торга.
Шкваркин создает образ «сборного города» Твердовска, в котором люди имеют «перевернутую» систему ценностей, воспринимая честность как главную человеческую слабость: «Конечно, он не простой аферист. Его похождения так красивы, романтичны!.. <…> По-твоему, он обыкновенный, маленький, честный обыватель? <…> Понимаю, ты хочешь очернить его. <…> Обыкновенный, простой, честный – разве это не гадости?» [Там же, с. 49]. Для них преступная деятельность окружена «романтическим» ореолом авантюризма и приключений. Елена – возлюбленная главного героя – видит в прошлом «красивую историю»: «А я завидую старым. Вы жили настоящей жизнью, полной красоты, изящества, романтики… Вы увлекались, влюблялись. Ваша молодость была таинственна и прекрасна… (Отцу.) Покойная мама рассказывала, как ты дрался из-за нее на дуэли… <…> А теперь?.. Жизнь криклива, груба и убога… Обнаженная, жалкая жизнь! Любовь? Это только старинное слово, значение которого забыто» [Там же, с. 7]. В эпоху, когда советское общество строит новую жизнь, ей не хватает «джентльменов, рыцарей, подвигов». Другие героини театрально стонут и ахают, когда речь заходит о «преступлениях» «благородного разбойника» Всеволода: «Ваша жизнь должна быть таинственна. Прелесть риска, острая и пряная любовь… бессонные ночи… Расскажите, расскажите» [Там же, с. 23].
Драматург высмеивает жителей Твердовска, которые тоскуют по дореволюционной жизни, потому что название конфет «раковые шейки» звучало поэтичнее. Чтобы сатирически изобразить мнимую «элитарность» горожан, Шкваркин прибегает к каламбурам: «Папаша ваш все про благородную кровь предков кричит и до того докричался, что эта самая кровь предков у него носом пошла» [Там же, с. 15].
Режиссер Студии Малого театра Ф. Каверин, предваряя премьеру пьесы «Шулер», выделял город Твердовск в качестве главного героя, отмечая его «несоветскую» природу, изолированность от современности: «В пьесе Шкваркина, живо чувствующего наши сценические стремления, – ролей много, героев два. Один – шулер. <…> Другой – лицо коллективное, некий городок Твердовск. <…> Стремление уйти от “серых будней советской жизни” к романтике, уводящей от действительности, доведено автором до абсурда. <…> В нашей работе наиболее интересным нам кажется то, что спектакль все время балансирует на грани комического и драматического» [4, с. 15].
В комедиях В. Шкваркина 1930-х гг. появляется новый главный герой. На смену «лишним людям», которые не могут приспособиться к современной жизни, и «вредным элементам», мешающим развитию государства, приходит трудолюбивый и оптимистически настроенный советский человек. В комедии «Простая девушка», премьера которой состоялась в Московском Театре сатиры 7 ноября 1937 г. [10, с. 387], драматург вновь обращается к гоголевской модели «сборного места», сжимая его до размеров двора, «ограниченного с двух сторон стенами старого каменного дома» [13, с. 219]. Уменьшая масштаб «сборного места», Шкваркин создает маленький «островок» мещанства, в котором властвуют обывательские порядки и бытовые дрязги многоквартирного дома: на клумбах лежат пустые консервные банки, из окон шумит «чудовищное радио» [Там же, с. 239], постоянно ругаются соседи.
В тексте нет однозначного указания на город, в котором разворачивается действие пьесы. Исходя из слов одного из персонажей, который говорит, что проезжал мимо памятника Пушкину на улице Горького, можно утверждать, что «сборное место» расположено в Москве. Если в «Шулере» провинция подвергалась осмеянию, то в «Простой девушке» Шкваркин изображает ее в положительном свете. Так, главная героиня комедии, Оля, с нежностью и теплотой вспоминает родной город: «У нас в Ульяновске в это время выйдешь в сад – темно, тихо, и только слышно, как изредка яблоки на землю падают: хлоп… хлоп.. тяжело, гулко… А иногда яблоко сорвется, и слышно, как оно меж веток пробирается, по листьям шуршит и наконец о землю – уже негромко – хлоп. И опять тихо» [Там же, с. 246–247].
В комедии «Простая девушка» Шкваркин вновь переосмысляет сюжетную схему гоголевского «Ревизора». Жители дома принимают «простую девушку» Олю, работающую прислугой в семействе Макаровых, за журналистку, которая живет здесь инкогнито с целью «вскрыть язвы нашего быта» [Там же, с. 256]. Драматург показывает, как «новый советский человек» становится другом и советником для окружающих, помогая соотечественникам изжить «старые нравы». Как и в комедии
«Шулер», Шкваркин создает «сборное место», ограничивая место действия пьесы двором и прилегающими к нему окнами квартир. Небольшое замкнутое пространство необходимо Шкваркину, чтобы сатирически изобразить «огражденных» от советской действительности «мелких людей» [Там же, с. 258], «бесконечно малые величины» [Там же, с. 255], «людей старой продукции» [Там же, с. 261]. Главная героиня старается видеть в жильцах дома глубоко спрятанную доброту, характеризуя их как «не злых, но, простите, глупых» [Там же, с. 284] и «добрых людей, если захотят» [Там же, с. 293], однако автор в первую очередь высмеивает их ограниченность и нежелание меняться.
Сюжет пьесы «Простая девушка», который строится вокруг фигуры «мнимого ревизора», позволяет Шкваркину раскрыть проблему «социального оборот-ничества». Отрицательные герои пьесы, узнав о присутствии в доме журналиста, вынуждены «играть роль». Однако Шкваркин акцентирует внимание на том, что они занимались тем же самым и до прихода Оли. В образах Анны Михайловны и Иры Самозванцевых, фамилия которых «говорит» об их двуличности, автор высмеивает лицемерие. Ира – «дешевая, линючая, какой-то трухой набитой кукла» [Там же, с. 264], стремления которой ограничены желанием «успешно» выйти замуж. Поведение девушки драматург показывает как результат воспитания глупой мещанки Анны Михайловны. Мать дает своей дочери «жизненные советы», которые чужды для нового советского общества – «немного шарма, немного секса…» [Там же, с. 250] Именно старшая Самозванцева наиболее яростно выступает против Оли, когда становится известно истинное положение дел: «Из-за простой девчонки весь дом две недели, как на выставке жил! Побегу других успокоить. Дрянь!» [Там же, с. 283] Несостоятельность пошлого «романтизма» героинь в советском обществе драматург подчеркивает, противопоставляя ему столь же вульгарную и циничную речь богатого сорокалетнего кладовщика Егора Гавриловича, в котором Ира видела своего избранника: «Я от вас не отказываюсь. Но браком, – нет, не интересуюсь. Женатым я был. И не раз и не два. Я этой бражки попробовал. <…> Я что-либо поэтическое подыскивал. Знаете, зашел после работы… Девичья комната, мягкая лампа горит… На столе триста граммов, колбаска порезана… Романтики хочется! А – “где был?”, “почему опоздал?”, “сколько денег принес?..” это безвкусица, это меня не интересует» [Там же, с. 288–289].
Драматург создает ряд комических отрицательных персонажей, которым «целую неделю пришлось жить по-человечески» [Там же, с. 266]. Например, характеристику Евдокии Петровны в списке действующих лиц, драматург ограничивает «владелицей мощного радиоприемника». Данное решение позволяет драматургу не только создать комический эффект, но и показать недалекость персонажа, характер которого можно выразить в таких словах. Прасковья Ивановна Макарова пытается казаться в глазах Оли лучше, чем она есть, но желание это неискренне: «“Пиквик-ский клуб” дочитываю. Говорят, очень смешная книга. Вероятно, в самом конце» [Там же, с. 280]. Хотя недостатки большинства обитателей Шкваркин показывает как мелкие, бытовые – все вместе они все же представляют угрозу для государства, потому что тормозят развитие советского общества. Именно поэтому образ «сборного места» в пьесе Шкваркина можно назвать сатирическим.
В комедии «Простая девушка», как и в «Шулере», есть персонажи, живущие прошлым, но вместе с ними в доме живут современные советские люди. Если в «Шулере» действующие лица в массе своей – отрицательные персонажи, то в «Простой девушке» есть герои, обладающие положительными качествами. В системе персонажей пьесы Шкваркин выделяет пожилого рабочего Андрея Степановича, желающего «людей с мертвой точки сдвинуть» [Там же, с. 263], в характере которого проявляются черты нового советского человека. В некоторых репликах герой напрямую высказывает позицию автора: «Думаете, отслужили семь часов и ладно? Ошибаетесь. Теперь этого маловато. Потрудитесь стать порядочным человеком. Научитесь и дома жить прилично» [Там же, с. 257].
В комедии «Простая девушка» Шкваркин говорит о невозможности вернуться к «старым порядкам», поэтому советскому человеку необходимо бороться с мещанством внутри себя: «Мы все Олю благодарить должны. Это из-за нее здесь жить лучше стали. Сначала усилие над собой делали, а потом и самим понравилось. Неужели теперь обратно? Вы же люди неплохие, подумайте! Нельзя вам обратно, да и не хочется!» [Там же, с. 290]
Финал комедии «Простая девушка» пронизан оптимизмом: драматург показывает, что появление Оли дало положительный результат. Так, Сергей Сергеевич Грифелев, несмотря на почтенный возраст, проникся уважением к молодой героине: «Нет, пожалуй, она писательница. Она вписала в наши отношения очень хорошую страницу. И мне лично было бы жаль ее зачеркивать» [Там же, с. 285]. В качестве черты, определяющей характер современной эпохи, Шкваркин выделяет ее «непредвзятость» к человеку, позволяющую ему собственным трудом менять жизнь к лучшему: «И что значит “простая”? Сегодня она “простая”, а через три года – инженер, педагог, юрист…» [Там же, с. 290]. Изображая «простоту» в положительном ключе, Шкваркин противопоставляет современные нравы пережиткам прошлого, которые он осмеивал в пьесе «Шулер».
В комедии «Простая девушка» на смену сатирическому пафосу 1920-х гг. приходит жизнеутверждающее настроение 1930-х гг. В пьесе «Шулер» Шкваркин создает образ «сборного города», вобравшего в себя пороки современности, в котором «все дороги ведут к жульничеству» [14, с. 65]. Драматург «отделяет» Твердовск от советской действительности, сатирически изображая «романтическую ностальгию» по утраченному прошлому и желание личного обогащения. Главный герой, приехавший из Москвы, необходим Шкваркину, чтобы высмеять недостатки столичного и провинциального общества. Это сатирический тип «лишнего человека», который не может найти себе места ни в Твердовске, ни где-либо в «новой» жизни. В комедии «Простая девушка» Шкваркин противопоставляет обывательским порядкам жителей дома новую мораль советских людей, которые помогают друг другу освобождаться от предрассудков прошлого. Уменьшая масштаб «сборного места» до размеров небольшого двора, Шкваркин создает сатирический образ – расположенную в Москве «резервацию мещанства», огражденную от современности не только каменными стенами соседних домов, но и «глухой стеной» человеческого непонимания.
Список литературы "Сборное место" в комедиях В. Шкваркина
- Борбунюк В. А. История монтера-драматурга в пьесе В. Шкваркина «Лира напрокат»: метаморфозы советского водевиля // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету. 2014. Вип. 71. № 1127. С. 182-191.
- Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: Т. 8. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1952. С. 432-467.
- Гоголь Н. В. Театральный разъезд // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: Т. 5. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1949. С. 137-171, 382-392.
- К постановке пьесы «Шулер» в Студии Малого театра (режиссер Ф. Каверин о пьесе) // Новый зритель. 1928. № 46. С. 15.
- Крути И. Чудесный сплав // Театр и драматургия. 1934. № 7. С. 49-55.
- Манн Ю. В. Комедия Гоголя «Ревизор». М.: Худож. лит., 1966. 112 с.
- Николаев Д. П. Сатира Гоголя. М.: Худож. лит., 1984. 367 с.
- Новиков А. Д. Комедия В. Шкваркина «Чужой ребенок» в оценках советской критики // Вестник Томского гос. пед. университета. 2019. № 1 (198). С. 49-57.
- Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. Т. 1. 1917-1934. Л.; М.: Искусство, 1963. 603 с.
- Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. Т. 2. 1934-1941. Л.; М.: Искусство, 1966. 408 с.
- Розенталь С. «Чужой ребенок» В. Шкваркина. (Театр Сатиры) // Правда. 1933. № 302 (5828). С. 4.
- Шеленок М. А. Драматургия И. Ильфа и Е. Петрова и водевильная тенденция в отечественной комедиографии 1920-х-1930-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / М. А. Шеленок; Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. Саратов, 2016. 279 с.
- Шкваркин В. В. Простая девушка // Шкваркин В. В. Комедии. М.: Искусство, 1966. С. 217-293.
- Шкваркин В. В. Шулер. М.: Теакинопечать, 1929. 90 с.