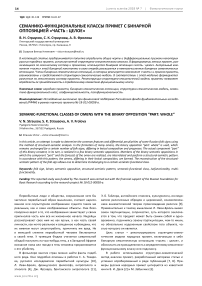Семанико-функциональные классы примет с бинарной оппозицией "часть : целое"
Автор: Страусов В.Н., Страусова С.К., Фролова А.В.
Журнал: Juvenis scientia @jscientia
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье предпринимается попытка определить общие черты и дифференциальные признаки некоторых русских народных примет, используя метод структурно-семиотического анализа. В формировании многих примет, различающихся по лексическому составу и прогнозам, используется бинарная оппозиция «часть : целое». Актуальный компонент «часть» этой бинарной константы в свою очередь реализуется в немногочисленных бинарных семантических оппозициях. Члены бинарных семантических оппозиций, в которых реализуется компонент «часть» и прогноз приметы, взаимосвязаны и представляют структурно-семиотическую модель. В соответствии с этой моделью формируются различные по лексическому составу приметы. Реконструкция структурно-семиотической модели приметы позволяет определить ее принадлежность к определенному семантико-функциональному классу.
Народная примета, бинарная семантическая оппозиция, структурно-семиотическая модель, семантико-функциональный класс, изофункциональность, полифункциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/14110521
IDR: 14110521 | УДК: 81.139
Текст научной статьи Семанико-функциональные классы примет с бинарной оппозицией "часть : целое"
Funding: The reported study was funded by The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research according to the research project № 18-012-00058-а.
Первобытные люди и общества, сохранившие хотя бы частично первобытный образ мышления, считают нарисованное или скульптурное изображение существ таким же реальным, как и сами изображаемые объекты. Они безоговорочно верят в то, что изображения заимствуют у своих оригиналов часть или все их жизненное начало. Индейцы рассматривают свое имя не как ярлык, а как часть своей личности, как нечто реальное и священное и убеждены, что их именем могут злоупотребить, причинить им вред. Не в меньшей степени первобытный человек беспокоится о своей тени. У туземцев Фиджи считается смертельной обидой наступить на чью-нибудь тень, а в Западной Африке вонзание ножа или гвоздя в тень человека приравнивается к его убийству.
В фольклоре многих стран можно найти факты подобного рода. Они подробно описаны в работах С. А. Токарева, русского исследователя первобытной культуры [10], Л. Леви-Брюля, французского философа, антрополога и этнолога [4], Дж. Фрэзера, британского антрополога [11],
Э. Б. Тайлора, английского этнолога, культуролога, исследователя религиозных обрядов и церемоний, основоположника анимистической теории происхождения религии [9]. Применительно к такому мышлению Л. Леви-Брюль вывел закон партиципации, сопричастия, суть которого заключается в том, что предмет может быть самим собой и одновременно, подчиняясь закону партиципации, чем-то иным, но обязательно наделенным свойством того объекта, частью которого он является.
Цель статьи – реконструировать структурно-семиотические модели народных примет, включающих в себя бинарную семантическую оппозицию « часть : целое », и обозначить их принадлежность к определенному семантикофункциональному классу или подклассу.
В работе использовался структурно-семиотический метод анализа примет, разработанный авторами статьи и успешно апробированный в ряде публикаций [7, 8]. Примеры русских народных примет цитируются из известной книги В. И. Даля [2] и М. Забылина [3].
Представляется целесообразным предварительно объяснить используемые в процессе анализа термины: общая структурно-семиотическая модель, структурно-семиотический трансформ общей модели, изофункциональность, полифункциональность. Исходя из структурно-семиотического метода, мы определяем примету как сложный знак, состоящий из означающего и означаемого. Событийная часть приметы представляет означающее, а прогностическая – означаемое. В означающих используются коды, имеющие высокую степень культурной отмеченности. Культурные коды означающих и означаемые примет реализуются в определенных бинарных семантических оппозициях. Общая структурно-семиотическая модель включает в себя все семантические признаки бинарных оппозиций означающего и означаемого. Структурно-семиотический трансформ общей модели представлен только теми семантическими признаками оппозиций, которые свойственны той или иной примете.
Вслед за В. Я. Проппом [5], Т. А. Агапкиной [1] и авторами словаря «Славянские древности» [6] мы полагаем, что в основе категории изофункциональности лежит принцип содержательного единства повторяющихся культурных экспонентов. Изофункциональность различных культурных кодов, а, следовательно, бинарных семантических оппозиций и означающих определяется идентичностью их функций, которые детерминируются означаемым приметы. Полифункциональность культурных кодов, их бинарных семантических оппозиций и означающих, напротив, базируется на функциональном различии повторяющихся культурных экспонентов примет.
Приметы, включающие в себя семантическую оппозицию « часть : целое », не всегда относятся к одному и тому же семантико-функциональному классу. Компонент « часть » семантической оппозиции « часть : целое » чаще всего бывает маркированным и выступает самостоятельно в примете. Например:
-
– чтобы корова не ушла к прежнему хозяину, ее нужно покупать с подойником;
-
– чтобы лошадь не ушла к прежнему хозяину, ее нужно покупать с недоуздком;
-
– чтобы собака не сбежала со двора, надо вырвать у неё из шеи клок шерсти;
-
– чтобы удача от вас не отвернулась, нужно, продавая животное, оставить клок шерсти себе;
-
– хочешь вернуться в понравившуюся местность – брось в ближайший водоём монетку;
-
– если женщина в сумочке или в кармане носит желудь, то она всегда будет оставаться молодой.
В означающих первых трех примет используются культурные коды (часть целого) подойник, недоуздок, клок шерсти. Коды подойник и недоуздок реализуются в бинарной семантической оппозиции «купить : не покупать», а код «клок шерсти» – в оппозиции «вырвать : не вырывать». Коды означаемых (корова, лошадь, собака) реализуются в оппозиции «уйти : остаться». Из общей структурно-семиотической модели «часть : целое + купить : не покупать = уйти : остаться» вытекает структурно-семиотический трансформ первой и второй приметы с семантическими признаками «часть + купить = остаться». Общая структурно-семиотическая модель третьей приметы использует признаки «часть : целое + вырвать : не вырывать = уйти : остаться». Трансформ третьей приметы учитывает эти изменения и сохраняет признаки «часть + вырвать = остаться». Семантический признак «остаться» указывает на то, что означаемое выполняет функцию аттракции. Подойник и недоуздок (части целого), купленные вместе с коровой и лошадью, не дают им уйти к прежнему хозяину, а клок шерсти, взятый хозяином собаки, не позволяет ей убежать от него. Очевидность аттрактивной семантики «части», которая транслируется ей означаемым, также проявляется в вербальных вариантах примет: если купить корову без подойника, она уйдет к прежнему хозяину; если купить лошадь без недоуздка (уздечки), она уйдет к прежнему хозяину. Здесь семиотическая модель представлена структурой «часть + не покупать = уйти (к прежнему хозяину)». Семантический признак «уйти» означаемого тоже указывает на аттрактивную функцию, но по отношению к продавцу, у которого остался недоуздок (подойник), а не к покупателю. Не проданные подойник и недоуздок (часть) возвратят животных продавцу.
В означаемом четвертой приметы используется культурный код « удача ». Но структурно-семиотическая модель остается прежней – « часть + оставить себе = остаться »: клок шерсти, оставленный у себя, не дает удаче уйти от вас, часть привлекает удачу.
Пятая примета построена по структурно-семиотической модели « часть + отдать = возвратиться ». Монета, оставленная в водоеме, воспринимается как часть ее владельца и влечет его к тому месту, где он оставил монету. Означаемые всех пяти примет, несмотря на некоторые различия семантических признаков, выполняют функцию аттракции. Ср.: 1, 2. « часть + купить = остаться »; 3, 4. « часть + оставить себе = остаться »; 5. « часть + отдать = возвратиться ». Культурные коды ( подойник, недоуздок, клок шерсти, монета ) означающих, их семантические признаки « часть + купить »; « часть + оставить себе »; « часть + отдать » и сами означающие – изофункциональны, так как им атрибутируется функция аттракции означаемого. Поэтому все пять примет относятся к аттрактивному семантико-функциональному классу.
Несколько иначе представлена структурно-семиотическая модель шестой приметы: если женщина в сумочке или в кармане носит желудь, то она всегда будет оставаться молодой . Желудь является частью дуба, наследует его жизненную силу, долголетие и передает эти свойства своему владельцу. Культурный код « желудь » означающего приметы реализуется в оппозиции « носить (с собой) : не носить », а означаемое – в оппозиции « сохранить молодость : состариться ». Примета сформирована по иному структурно-семиотическому трансформу – « часть + носить (с собой) = сохранить молодость ». Женщина носит желудь, часть дуба, который уберегает ее от старости. Семантический признак означаемого « сохранить » указывает на то, что желудь выступает в качестве оберега молодости, а означаемое выполняет одну из апотропейных функций сакральных объектов: охранять, отгонять, защищать. Апотро-пейный семантико-функциональный класс примет состоит из охранного, отгонного и защитного семантико-функциональных подклассов. Настоящая примета, в отличие от предыдущих, относится к охранному семантико-функциональному подклассу апотропейного класса.
Многие приметы с семантической оппозицией «часть : целое» формируют симпатические семантико-функциональные классы. Например: если портниха зашьет свой волос к чужому приданному, сама скоро замуж выйдет; кто поймает цветы, брошенные невестой, тот первый выйдет замуж. Культурный код «волос» (часть портнихи) означающего первой приметы реализуется в оппозиции «зашить : выпороть», а код «цветы» (часть невесты) означающего второй приметы – в оппозиции «поймать : упустить». Означающее первой приметы осложнено дополнительным культурным кодом «приданное», который реализован в оппозиции «свое : чужое». Он факультативен, поскольку волос можно было зашить в платье, фату. Портниха не просто зашивает свой волос в чужое приданное. Она, перенося часть себя на чужое приданное, словно бы становиться его владелицей, уподобляясь невесте. Поэтому означаемое приметы реализуется в оппозиции «подобное : отличное (другое)». Портниха скоро выйдет замуж благодаря тому, что она уподобилась невесте. Общая структурно-семиотическая модель приметы – «часть : целое + зашить : выпороть + свое : чужое = подобное : отличное (другое)». Ее семиотический трансформ представлен структурой с семантическими признаками «часть + зашить + чужое = подобное».
Цветы также наделяются свойствами женщины, идущей под венец, и передаются тому, кто их поймает. Означаемому свойственна идентичная бинарная оппозиция « подобное : отличное (другое) », так как девушка, поймавшая цветы, уподобляется невесте. Структура трансформированной семиотической модели первой приметы аналогична по основным параметрам трансформированной структуре семиотической модели второй приметы. Ср.: 1.« часть + зашить + чужое = «подобное ». 2. « часть + поймать = подобное ». Обе приметы относятся к симпатическому семантикофункциональному классу, так как их означаемые транслируют культурным кодам и семантическим признакам « часть + зашить + чужое», «часть + поймать » означающих функцию уподобления.
По нашим наблюдениям семантическая оппозиция «часть : целое» активно используется в приметах, отражающих былые лечебные практики. Приведем, в качестве примера, некоторые из них:
-
– чтобы излечить от лихорадки, нужно выстричь у больного клок волос, положить их в дыру осины и забить камешком (колышком);
-
– чтобы излечить от эпилепсии, нужно, во время припадка у больного, отрезать клок рубашки и, как только случиться покойник, положить этот клок к нему в гроб;
-
– чтобы излечить ребенка от сыпи, нужно перевязать его поясом и выбросить пояс на перекрестке;
-
– чтобы вылечить от пьянства, нужно зажать в руку мертвеца монету, купить на нее водки и дать пьющему выпить.
Культурные коды «клок волос», «клок рубашки», «пояс», «рука мертвеца», репрезентирующие часть чего-либо целого, представляют далеко не полный перечень кодов, которые использовались при лечении больных. Клок волос (часть) реализуется в семантической оппозиции «передать : оставить себе» с актуализацией признака «передать» Первая примета содержит дополнительный культурный код «осина». Это дерево считалась «нечистым» и использовалось в народной медицине для передачи ей различных болезней, чаще всего лихорадки. Семантическая оппозиция кода «осина» – «принимать : отдавать». В примете актуализирован признак оппозиции «принимать». В означаемом приметы актуализируется семантический признак «излечиться» оппозиции «излечиться : заболеть». В результате получаем струк- туру семиотической модели: «часть + передать + принять = излечиться».
Во вторую примету включен дополнительный код « гроб » с идентичной семантической оппозицией « принимать : отдавать ». В означаемом актуализирован признак « излечиться ». Семиотическая структура приметы ничем не отличается от структуры первой приметы – « часть + передать + принять = излечиться ».
В четвертой примете код « пояс » реализуется в оппозиции « передать : оставить себе » с актуализацией признака « передать ». В дополнительном культурном коде « перекресток » актуализирован признак « принять » оппозиции « принимать : отдавать », а в означаемом актуализируется признак « излечиться ». Это значит, что структура семиотической модели приметы идентична предыдущим: « часть + передать + принять = излечиться ». Эти приметы относятся к медицинальному, лечебному семантико-функциональному классу.
Структура семиотической модели пятой приметы осложняется тем, что в ней, помимо основного кода « рука мертвеца », используются предметы « монета » и « водка ». Коду « рука мертвеца » свойственна бинарная оппозиция « живой : мертвый ». Монета, побывавшая в руке мертвеца, и водка, купленная на эти деньги, принимают на себя признак « мертвый » и передают его живому человеку. Живой частично уподобляется умершему, так как у него исчезает желание пить. В означаемом приметы актуализирован все тот же признак « излечиться ». Он объясняет назначение используемых объектов и актуализацию соответствующих семантических признаков бинарных оппозиций означающего: « часть + мертвый + передать + принять = излечиться ». Данная примета формирует лечебно-симпатический подкласс лечебного семантико-функционального класса.
Выводы . Выявление семантико-функциональных классов или подклассов народных примет возможно только с опорой на структурно-семиотические модели. Структурно-семиотические модели примет наглядно показывают, какие семантические признаки бинарных оппозиций актуализируются в означающих и означаемых, служащих основанием отнесения приметы к определенному семантико-функциональному классу.
Семантические признаки « часть + купить», «часть + оставить себе », « часть + отдать » и т.д. означающих и признаки « привлечь », « сохранить », « подобное », « излечить » и т.д. означаемых никак не связаны между собой на уровне современных словарных дефиниций. Данное обстоятельство может привести исследователя к ложному заключению о том, что означающее и означаемое примет существуют независимо друг от друга. Мифологическое, суеверное сознание устроено иначе и свидетельствует об обратном. Содержательная структура «приметного» сознания, моделирующая реальность по приметам и организующая поведение человека в соответствии с ними, имеет отличительные особенности. Семантические признаки означающих и означаемых народных примет на уровне палеоментальных знаний состоят в отношении взаимозависимости. « Часть » интерпретируется означаемыми как средство, способное что-либо привлечь, сохранить, уподобить, излечить и т.д. Это свидетельствует о том, что культурные коды означающего могут быть изофункциональными и полифункци-ональными. Их изофункциональность проявляется в пределах одного семантико-функционального класса народных примет, а полифункциональность – в рамках других семантико-функциональных классов.
Список литературы Семанико-функциональные классы примет с бинарной оппозицией "часть : целое"
- Агапкина Т.А. Изофункциональность и синонимия в фольклоре, верованиях и обрядах, связанных с деревьями//Славянский мир в третьем тысячелетии. Образ России в славянских странах. М.: Институт славяноведения РАН, 2012. С. 363-372.
- Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. М.: Аргументы недели, 2016.
- Забылин М. Русский народ: Его обычаи, предания, обряды. М.: Эксмо, 2003.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. М.: Международные отношения, 2004. Т. 1.
- Страусов В.Н., Страусова С.К., Фролова А.В. Структура семиосферы и концептосферы примет, описывающих ритуальные действия «наоборот»//Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. Материалы II международной научно-практической конференции. Пятигорск: ПГУ, 2018. Ч. I. С.403-417.
- Страусова С.К., Страусов В.Н., Заврумов З.А. Структурно-семиотические модели народных примет с числовым кодом//Вестник ПГУ. Пятигорск, 2017. С.123-128.
- Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.
- Токарев С.А. Сущность и происхождение магии. Типы магии//Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. С. 426-431.
- Фрэзер Дж. Дж. Симпатическая магия//Золотая ветвь: исследование магии и религии/пер. с англ. М. К. Рыклина. М.: Терра -книжный клуб, 2001. С. 16-40.