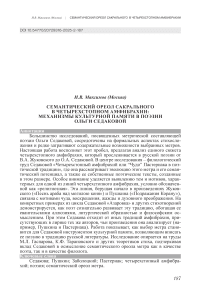Семантический ореол сакрального в четырехстопном амфибрахии: механизмы культурной памяти в поэзии Ольги Седаковой
Автор: Максимов И.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Большинство исследований, посвященных метрической составляющей поэзии Ольги Седаковой, сосредоточены на формальных аспектах стихосложения и редко затрагивают содержательные возможности выбранных метров. Настоящая работа восполняет этот пробел, предлагая анализ единого сюжета четырехстопного амфибрахия, который прослеживается в русской поэзии от В.А. Жуковского до О.А. Седаковой. В центре исследования - филологический труд Седаковой «Четырехстопный амфибрахий или “Чудо” Пастернака в поэтической традиции», где она рассматривает эволюцию этого метра и его семантический потенциал, а также ее собственные поэтические тексты, созданные в этом размере. Особое внимание уделяется выявлению тем и мотивов, характерных для одной из линий четырехстопного амфибрахия, условно обозначенной как «религиозная». Эта линия, берущая начало в произведениях Жуковского («Песнь араба над могилою коня») и Пушкина («Подражания Корану»), связана с мотивами чуда, воскрешения, жажды и духовного преображения. На конкретных примерах из цикла Седаковой «Азаровка» и других стихотворений демонстрируется, как поэт сознательно развивает эту традицию, обогащая ее евангельскими аллюзиями, литургической образностью и философским осмыслением. При этом Седакова отходит от иных традиций амфибрахия, присутствующих в лирике тех же авторов, чьи произведения она анализирует (например, Пушкина и Пастернака). Работа показывает, как выбор метра становится для Седаковой инструментом культурной памяти, позволяющим вписать ее поэзию в традицию русской литературы. Исследование опирается на труды М.Л. Гаспарова, К.Ф. Тарановского и других теоретиков стиха, подчеркивая вклад Седаковой в осмысление семантического ореола метра как в качестве поэта, так и в качестве филолога.
Седакова, пушкин, заболоцкий, пастернак, четырехстопный амфибрахий, поэзия, семантический ореол метра
Короткий адрес: https://sciup.org/149148610
IDR: 149148610 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-187
Текст научной статьи Семантический ореол сакрального в четырехстопном амфибрахии: механизмы культурной памяти в поэзии Ольги Седаковой
Sedakova; Pushkin; Zabolotsky; Pasternak; four-foot amphibrach; poetry; semantic halo of metre.
Рассматривая амфибрахий в цикле Ольги Седаковой «Азаровка», К. Ме-грелишвили со ссылкой на работу М. Гаспарова [Гаспаров 2012] отмечает, что амфибрахий – «метр нейтральный и повествовательный, не допускающий проявления страстей и патетики», а его умеренность «позволяет поэту предоставить поэтическое пространство вещи или же явлению, которые не будут заслонены фигурой лирического субъекта» [Мегрелишвили 2017, 439]. Вместе с тем, тесная связь амфибрахия (преимущественно трехстопного) с балладным жанром придает стихотворному высказыванию «торжественную интонацию» [Мегрелишвили 2017, 465]. Также стоит отметить, что о четырехстопном амфибрахии Пастернака в связи с некрасовской традицией писал Кушнер [Кушнер 2020]. Тем не менее, ни в работе Мегрелишвили, ни в работах других авторов не рассматривается место четырехстопного амфибрахия в лирике Седаковой и связь этого стихотворного размера с определенной традицией и семантикой метра в истории русской поэзии.
На наличие такой связи указывает в первую очередь работа Седаковой «Четырехстопный амфибрахий или “Чудо” Пастернака в поэтической тради- ции», в которой она помимо собственно четырехстопного амфибрахия исследует то, «как вместе с версификационной формой – сознательно или бессознательно – наследуется некоторое смысловое задание и какие метаморфозы переживает тема в руках у наследников» [Седакова 2010b, 210].
В центре анализа Седаковой оказывается, как ясно из названия, стихотворение Пастернака «Чудо». По мысли поэта, «самым характерным принципом для позднего Пастернака становится неспорящее включение в наличную, хорошо знакомую читателю по хрестоматийным стихам семантику метра» [Седакова 2010b, 211]. Замыслу «русского повествования о евангельских событиях» отвечает «погружение евангельского сюжета в традиционный, узнаваемый, почти школьный метр» [Седакова 2010b, 211]. Во многом не «предметное окружение северным пейзажем», а этот «более тонкий, более интимный метрический пейзаж» позволяет «русифицировать» евангельские события, поскольку даже пустынный ландшафт «Чуда» оказывается русским через связь с русской поэтической традицией [Седакова 2010b, 212].
Эту традицию Седакова прослеживает от Жуковского («Песнь араба над могилою коня» ), задавшего ключевые мотивы (пустыня, жажда, внезапная смерть, попытка воскрешения), до Пушкина («Подражания Корану» ), где появляется тема ропота, богоборчества и чуда, происходящего на земле:
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь [Пушкин 1994, 318].
Продолжением пушкинского «Подражания Корану» стало стихотворение Лермонтова «Три пальмы». Это продолжение, однако, оказывается, по мнению Седаковой, «прямолинейнее», поскольку Лермонтов не учитывает «теодицеи Пушкина» и мораль его стихотворения сводится к «фатализму, мизантропии, подтверждению непоправимой жестокости мира» [Седакова 2010b, 217].
В XX в. эту традицию неожиданно подхватывает Заболоцкий («Лесное озеро» ), перенося действие в русский лес, сохраняя мотивы жажды, ропота и вводя религиозную символику («чаша», «свечи»), создавая светлую, почти литургическую версию прежних сюжетов:
И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя, И сосны, как свечи, стоят в вышине, Смыкаясь рядами от края до края. Бездонная чаша прозрачной воды Сияла и мыслила мыслью отдельной [Заболоцкий 2014, 236].
Стихотворение Пастернака «Чудо» завершает анализ Седаковой. В нем, по ее мнению, воплощено «версификационное чудо» – сложная структура рифмовки рождается из кажущейся нерегулярности, когда в седьмой и восьмой строфах обнаруживаются «три классические терцины: «аВа – ВаВ – сВс», которые в неявном виде лежали в основе пушкинской строфы “Подражания”» [Седакова 2010b, 221]:
По дереву дрожь осужденья прошла, Как молнии искра по громоотводу. Смоковницу испепелило дотла.
Найдись в это время минута свободы У листьев, ветвей, и корней, и ствола, Успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох [Пастернак 2004, 541].
На мотивном уровне Пастернак тоже совершает определенные трансформации: путником становится Христос, а чудо приобретает новый смысл – не разрушения, а перехода в вечность. Несмотря на внешнее сходство с Пушкиным, Пастернак переосмысляет традицию, придавая ей новозаветное и философское звучание:
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет, И встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет» [Пастернак 2004, 541].
Достаточно подробно изложив с опорой на работу Седаковой эволюцию одной из линий традиции четырехстопного амфибрахия в русской поэзии, попробуем рассмотреть, как Седакова уже в амплуа поэта «выполняет смысловое задание» в своей лирике. Стоит отметить, что одиннадцать из двенадцати стихотворений цикла «Азаровка» написаны именно четырехстопным амфибрахием. При этом строфически стихотворения организованы более свободно и не наследуют напрямую ни одному из проанализированных выше стихотворений. Так, шесть текстов написаны с перекрестной рифмой «абаб», с клаузулой «мж» («Ивы», «Высокий луг», «Холмы», «Лесная дорога», «Овраг», «Небо ночью»); стихотворение «Родник» имеет ту же перекрестную рифму, но клаузулу «жм»; два стихотворения («Поляна» и «Сад») имеют римфовку «абааб» с клаузулой «мжммж»; стихотворение «Вещая птица» написано строфой с рифмой «абаб вв», с клаузулами «мжмж жж» и «мжмж мм»; наконец, стихотворение «Деревня» имеет вольную рифмовку.
Открывается цикл стихотворением «Родник», в котором сразу возникает мотив границы, «внутреннего и внешнего», а также образ целебной воды, который вместе с появляющейся в третьей строфе чашей восходит, вероятно, к «Лесному озеру» Заболоцкого:
И первую – тем, кто толпится у входа, из внутренних глаз улыбаясь тебе, и пьет, и не выпьет влюбленную воду, целебную воду любви о себе [Седакова 2010a, 119].
Как и текст Заболоцкого, стихи Седаковой через образы чаши, «троеруч-ного света жаленья и славы» (отсылающего к иконе Божией Матери «Троеру-чице») и другие очевидно религиозные образы и лексику связываются с традицией «религиозного» амфибрахия. Саму же чашу из последней строфы можно уподобить преображающей, исцеляющей купели из финала стихов Заболоцкого, напоминающую таинство причастия или крещения:
И хочется мне измененную чашу тебе поднести, баснословный фиал, звучащий, как сердце промытое наше, чтоб Моцарт Горация перепевал [Седакова 2010a, 119].
В этой перспективе и первые строки стихотворения можно прочитать как образ людей (или младенцев), находящихся сначала в ожидании, а затем принимающих крещение, после которого они, как птенцы, оказываются накрыты круглящейся ладонью.
Отметим еще один вероятный подтекст рассматриваемого стихотворения – «Рождественскую звезду» Пастернака, также входящую в «Стихотворения Юрия Живаго», написанную амфибрахием и отделенную от «Чуда», центрального для анализа Седаковой стихотворения, только одним текстом. Так, возникающая евангельская сцена пришествия волхвов и скопления людей у входа («У камня толпилась орава народу / Светало. Означились кедров стволы. / – А кто вы такие? – спросила Мария. / – Мы племя пастушье и неба послы. / Пришли вознести вам обоим хвалы. / – Всем вместе нельзя. Подождите у входа» [Пастернак 2004, 539]) могла подсказать и первую строчку стихотворения: «И первую – тем, кто толпится у входа» (Седакова 2010, I, 119). «Свет троеручный жаленья и славы» восходит, вероятно, к завершающим строкам пастернаковского стихотворения: «И тот оглянулся: с порога на деву. / Как гостья, смотрела звезда Рождества» [Пастернак 2004, 539]. В строке «круглится ладонь, накрывая птенца» можно увидеть отсылку к сцене, в которой младенца вместо «овчинной шубы» согревают «ослиные губы и ноздри вола» [Пастернак 2004, 539]. Наконец, «вода любви о себе» может соотноситься с мотивом предзнаменования будущего, в том числе и распятия, обрывающего земную жизнь Христа, который присутствует в «Рождественской звезде»: «И странным виденьем грядущей поры / Вставало вдали все пришедшее после. / Все мысли веков, все мечты, все миры» [Пастернак 2004, 538].
Стоит отметить что, как и в стихотворении «Чудо», пейзаж рассматриваемого цикла оказывается не просто реалистичным, а с указанием конкретной локации – Азаровка. При этом сохраняется здесь и условный атрибут «аравийского» пейзажа – «медленный зной» в стихотворении «Высокий луг»:
6. Высокий луг
На медленном зное подруга лугов и света подруга на медленном зное лежит – и уходит лицо глубоко в повисшее зеркало передвижное.
Пространство похоже на мысли больных: оно за последние двери ни шагу:
– Я встану, я встану с цветов луговых, но ты расскажи мне, куда же я лягу...
И сердцебиенье нагнется над ней, головокруженье поклонится в ноги: ты лежа летишь, ты летишь на спине, летишь, как убогий на общем пороге [Седакова 2010a, 121–122].
Здесь можно увидеть прямую перекличку с пушкинским «Подражанием Корану», в том числе в обращении героини: ср. у Пушкина «Настал пробужденья для путника час; / Встает он и слышит неведомый глас: / “Давно ли в пустыне заснул ты глубоко ?” [все выделения принадлежат нам, если не указано иное – И.М. ] / И он отвечает: уж солнце высоко / На утреннем небе сияло вчера; / С утра я глубоко проспал до утра» [Пушкин 1994, 318], у Седаковой: «лежит – и уходит лицо глубоко / в повисшее зеркало передвижное. / Пространство похоже на мысли больных: / оно за последние двери ни шагу: / – Я встану, я встану с цветов луговых, / но ты расскажи мне, куда же я лягу...» [Седакова 2010a, 122].
Помимо этого, несмотря на то, что в цикле нет одного выделенного путника, мотив перемещения появляется в стихотворении «В кустах» (единственном написанном не четырехстопным амфибрахием тексте в цикле), причем везут лирическую героиню, возможно, на повозке, запряженной лошадьми, что соответствует исходному участнику событий – коню Жуковского:
Так и жила я и воду чужую носила, а можно ли пить, не спросила.
Старая женщина с сердцем тяжелым, как капля на ягоде, вдруг надо мной наклонилась:
– Пора, говорит, собирайся.
И повезли, и колеса стучали по бревнам горбатым [Седакова 2010a, 120].
Кроме того, в смене природных объектов от одного стихотворения к другому тоже можно увидеть неявное присутствие путника, передвигающегося по пространству деревни (особенно заметно это, если учитывать иллюстрации к циклу, сделанные непосредственно в Азаровке, и приведенные в сборнике «Сад мирозданья» [Седакова 2014]).
Мотив внезапной смерти, возникающий еще у Жуковского, можно видеть в стихотворении «Поляна»:
когда соловей задохнулся, как брат, обрушивши в пруд неухоженный сад [Седакова 2010a, 120].
Контраст динамики и неподвижности, также впервые разработанный Жуковским, видим при сравнении пятого и шестого стихотворений цикла, где от скачек мы переходим к «лежащей на зное подруге лугов»:
Там скачки в честь вечного дня Ильина, в честь внутренних гроз, образующих почву, зажмурив глаза и разжав стремена, роняя с повозки небесную почту [Седакова 2010a, 121]
и:
На медленном зное подруга лугов и света подруга на медленном зное лежит – и уходит лицо глубоко в повисшее зеркало передвижное [Седакова 2010a, 121].
Наконец, чудо преображения, заявленное уже в первом стихотворении (к примеру, тот же образ «измененной чаши»), достигнет кульминации в заключительном стихотворении цикла «Сад», где любая беда и трагедия будет тут же устраняться, а каждый предмет – возвращаться к первоначальному состоянию:
– И дом поджигают, а мы не горим.
И чашу расколют – а воздух сдвигает и свет зажигает, где мрак несветим. Одежду отнимут – а мы говорим, и быстро за нами писцы поспевают [Седакова 2010a, 125].
Сознательную опору и разработку Седаковой одной определенной линии четырехстопного амфибрахия подтверждают и другие стихотворения, написанные этим стихотворным размером. Так, очень показательно стихотворение «Баллада продолжения» из цикла «Selva selvaggia», который, как и цикл «Аза-ровка», входит в книгу стихов «Дикий шиповник». Само название – «Баллада продолжения» – указывает на следование и продолжение избранной традиции. Еще более важны эпиграфы к «Балладе»: это три цитаты из трех рассматриваемых в статье Седаковой стихотворения – «Подражания Корану», «Трех пальм» и «Чуда». При этом пропущен текст Заболоцкого «Лесное озеро» – как пропущен он был, по мысли Седаковой, и Пастернаком.
Пейзаж стихотворения при этом ближе скорее именно к стихотворению Заболоцкого, ср.: «Опять мне блеснула, окована сном, / Хрустальная чаша во мраке лесном» [Заболоцкий 2014, 236] и «И страшно, и холодно стало в лесу» [Седакова 2010a, 70]. Образ леса восходит одновременно и к «Комедии» Данте, на что указывает и название цикла (Selva selvaggia – «частая чаща», описание пространства, где начинается действие комедии), и в целом неявное присутствие дантовской терцины в строфической организации стихотворения Пушкина и особенно Пастернака. При этом строка «И шел он, и слезы боялся смахнуть» явно перекликается с первыми строками «Чуда»: «Он шел из Вифании в Ерусалим, / Заранее грустью предчувствий томим» [Пастернак 2004, 541].
В целом же стихотворение проникнуто той же религиозной темой бессмертия, чуда, возвращения к Творцу, что и все тексты, написанные амфибрахием. В «Балладе продолжения» можно увидеть и развитие истории блудного сына, лежащей в основе «Возвращения блудного сына», стихотворения, предшествующего «Балладе продолжения». Известно, что во многих стихотворениях Седаковой обнаруживаются аллюзии на Евангелия, в том числе и в связанной тематически «Элегии смоковницы», что прослеживает в своей монографии Медведева [Медведева 2013]. Характерно, что с этой темой связывается и мотив воскрешения, одного из центральных для рассматриваемой традиции:
И блудный сын проснулся у крыльца, где лег вчера, не зная, как признаться, что он еще не умер. Домочадцы толпятся в сердце, в окнах, на крыльце! [Седакова 2010a, 68].
Можно увидеть здесь и другую евангельскую историю – отречение апостола Петра, особенно в образе слез (ср. «И, выйдя вон, горько заплакал» Лк. 22:62), а также в строке «и дрогнет душа от собачьего лая», в которой можно разглядеть и возглас петуха, напоминающей Петру о предсказании Христа. Интересно, что согласно Евангелию от Луки в момент третьего отречения Иисус посмотрел в глаза Петру: «Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды» (Лк. 22:60– 61). Видим обращенный взгляд и в стихотворении Седаковой (причем с вполне библейским синтаксисом, когда говорят не уста или голос, но лицо):
Но прежде проснется, кто в доме уснул, услышит, что голосом сделался гул, и в окна посмотрит, и встретит у входа с лицом, говорящим: Я ум и свобода, я все, чего нет у тебя впереди.
Но хлеба не жалко, и ты заходи [Седакова 2010a, 70].
Завершается стихотворение диалогом, в котором, как и в тексте Пушкина, Господь обещает путнику вечную жизнь и заверяет, что именно человек является «торжеством»:
Так долго, пока он еще исчезал, твердил он: Ты все, чего я не узнал, ты ум и свобода, ты полное зренье, я – обликом ставшее кровотеченье.
И тут раздалось, обрывая его:
– Я ум и свобода, но ты – торжество [Седакова 2010a, 71].
Последняя строка явно перефразирует стихотворение Блока, которое Седаковой тоже прочитывается как стихотворение с религиозной тематикой: «Он весь – дитя добра и света, / Он весь – свободы торжество!» [Блок 1997, 57]. Причем подобное настроение, сопоставимое с блоковским, возникает и в других циклах Седаковой, например, в «Тристане и Изольде» (см. [Спиваковский 2021]).
Таким образом, как было показано на нескольких примерах, обращаясь к определенному стихотворному размеру, Седакова опирается на ряд текстов, предшествующих ее стихам. Указывает на эту сознательную, неслучайную связь в первую очередь литературоведческое исследование самого автора, в котором прослеживается традиция четырехстопного амфибрахия в русской поэзии. Любопытное подтверждение обнаруживаем и в стихотворении «Баллада продолжения», в качестве эпиграфов к которому Седаковой выбраны цитаты из трех стихотворений, проанализированных и в статье. Далее, наибольший интерес представляет цикл «Азаровка», почти полностью написанный четырехстопным амфибрахием, в котором разрабатываются все темы и мотивы, характерные для избранного стихотворного размера: пейзаж с контрастами зноя и жажды, внезапная смерть, контраст динамики и неподвижности и особенно тема чуда, воскрешения и вечной жизни. Кроме того, устойчивый комплекс мотивов формирует «религиозный ореол» избранного варианта амфибрахия: в стихотворении «Родник» образ «целебной воды» и «измененной чаши» отсылает к таинству причастия, перекликаясь с «Лесным озером» Заболоцкого, где озеро сравнивается с «бездонной чашей»; в стихотворении «Сад» чудесное преображение («И дом поджигают, а мы не горим») продолжает тему пастернаковского «Чуда» с его евангельским подтекстом; усиливается «религиозный ореол» церковной лексикой («троеручный свет» в «Роднике») и библейскими аллюзиями (образ блудного сына в «Балладе продолжения»).
Подтверждает сознательную разработку одной конкретной линии четырехстопного амфибрахия и наличие других стихотворений, написанных этим размером, но связанных с темами, почти не возникающими в стихотворениях Седаковой с этой строфикой. Это тем более показательно, что подобные стихи можно отметить и в лирике тех же авторов, которых исследует Седакова (см. хотя бы «Черную шаль» или «Тучу» Пушкина, в которых, как минимум, на первый взгляд, нет тем и мотивов, которые есть в «Подражании Корану» и во всей последующей традиции вплоть до «Чуда» Пастернака).
Тем самым, можно сказать, что избирая четырехстопный амфибрахий в качестве стихотворного размера многих своих стихотворений, Седакова налагает на себя вместе с тем «смысловое задание», и становится наследницей как поэтов, писавших этим стихотворным метром, так и исследователей семантического ореола метра (в первую очередь Г.А. Шенгели [Шенгели 1960], К.Ф. Тарановского [Тарановский 2010] и М.Л. Гаспарова, на чью работу она ссылается в собственном исследовании).