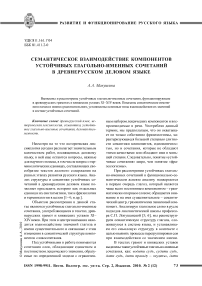Семантическое взаимодействие компонентов устойчивых глагольно-именных сочетаний в древнерусском деловом языке
Автор: Макушина А.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Выявлены и рассмотрены устойчивые глагольно-именные сочетания, функционирующие в древнерусских грамотах и княжеских уставах XI-XIV веков. Показаны семантические измене- ния глагола и имени существительного, установлены основные типы взаимодействия их значений в составе устойчивых сочетаний.
Древнерусский язык, историческая лексикология, семантика, устойчивые глагольно-именные сочетания, деловая письменность
Короткий адрес: https://sciup.org/14969495
IDR: 14969495 | УДК: 811.161.104
Текст научной статьи Семантическое взаимодействие компонентов устойчивых глагольно-именных сочетаний в древнерусском деловом языке
Несмотря на то что историческая лексикология сегодня располагает значительным количеством работ, посвященных деловому языку, в ней еще остаются вопросы, важные для научного поиска, в том числе вопрос о терминологических единицах, составляющих своеобразие текстов делового содержания на разных этапах развития русского языка. Анализ структуры и семантики устойчивых сочетаний в древнерусском деловом языке позволяет проследить историю как отдельных единиц и их синтагматики, так и фразеологии и терминологии в целом [1–4; и др.].
Объектом рассмотрения в данной статье являются устойчивые глагольно-именные сочетания, употребляющиеся в текстах древнерусских грамот и княжеских уставов XI– XIV веков. При этом в центре внимания находится взаимодействие значений глагола и имени существительного и связанные с этим изменения в семантической структуре компонентов словосочетания.
Под устойчивыми в работе понимаются сочетания слов, обладающие единством и постоянством лексического значения, образуемые по определенной модели с ограничен- ным набором лексических компонентов и воспроизводимые в речи. Употребляя данный термин, мы предполагаем, что он охватывает не только собственно фразеологизмы, характеризующиеся большой степенью слитности семантики компонентов, идиоматичностью, но и сочетания, которые не обладают этими качествами или обладают ими в меньшей степени. Следовательно, понятие «устойчивые сочетания» шире, чем понятие «фразеологизмы».
При рассмотрении устойчивых глагольно-именных сочетаний в функционально-семантическом аспекте анализу подвергается в первую очередь глагол, который является чаще всего постоянным компонентом – грамматически опорным словом; обращается внимание и на имя существительное – семантический центр, грамматически зависимый компонент. Анализируя глагольное слово в русле подходов лингвистической школы профессора С.П. Лопушанской [5; 6], мы реконструируем семантическую структуру глагола, сложившуюся в системе языка, и устанавливаем его смысловую структуру в контексте с целью выявить процессы перегруппировки сем при взаимодействии со значением имени.
В текстах грамот и княжеских уставов выделены такие устойчивые глагольно-именные сочетания, как: водити судъ , судити судъ, дати судъ, дати правьду – «судить», дати
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ слово – «отвечать, нести ответственность», дати руку – «поручиться за кого-что-л.», дьржати къняжение – «княжить», дьржати гневъ, дьржати нелюбие – «гневаться», до-коньчати миръ – «заключить мирный договор», целовати крьстъ – «присягать», дьржати миръ, дьржати правьду – «находиться в определенных отношениях с другой стороной» и др.; многие из них относятся к юридическим терминам.
Анализ этих сочетаний позволил выделить основные пути семантического взаимодействия имени и глагола.
-
1. Широко представлены устойчивые сочетания, в которых глагол является информативно недостаточным и тесно связан с именем существительным, дополняющим его смысл; все сочетание является, как правило, синонимичным одному глагольному слову. Например: А гнева ти, княже, до Новаго-рода не дьржати ни до одиного человека (Грам. Новг. Тверск. в. кн. Мих. Яр. с условиями договора, 1304–1305 гг.); сочетание дьржати гневъ «гневаться» обозначает эмоциональное отношение к объекту конкретного, одушевленного субъекта, который выражен формой Дат. п. личного местоимения 2 л., соотносящегося со словоформой княже в функции обращения. Глагол дьржати в прямом значении «держать, то есть касаться чего-л., взяв в руки и не давая упасть» содержит дифференциальные семы (ДС) ‘воздействие на объект посредством прикосновения руками’, ‘воздействие на объект с целью поддержания в определенном состоянии’, уточняющие категориально-лексическую сему (КС) ‘физическое воздействие на объект’. В рассматриваемом сочетании абстрактное существительное гневъ в позиции прямого объекта способствует нейтрализации категориально-лексической семы и реализации в смысловой структуре глагола ДС ‘сохранение определенного состояния’, конкретизируя характер этого состояния как эмоции. Контекстуальные уточнители до Новагорода, до одиного человека называют тех, по отношению к кому князю не следует проявлять чувства гнева.
-
2. В нашем материале представлены случаи употребления глагольно-именных устойчивых сочетаний, в которых глагол выступает в прямом значении и несет основную смысловую нагрузку, а имени отведена роль «дублера», например: А бес посадника ти, княже, суда не судити (Договорн. грам. Новг. с в. кн. Яр. Яр., 1270 г.), где все сочетание судити судъ имеет значение «судить» (Срезн., т. III, стб. 597), как и глагол судити . При отсутствии существительного значение глагола сохраняется, в его смысловой структуре сохраняется КС ‘социальная деятельность’, содержащаяся и в семантике имени.
-
3. В древнерусских деловых текстах отмечено употребление сочетаний имени существительного и глагола, которые сохраняют свою семантику, но связь между данными компонентами имеет сложный, уникальный
характер. Например: На семь ти, княже, хрьстъ целовати , на цемъ то целовалъ хрьстъ отец твои Ярославъ (Договорн. грам. Новг. с Тверск. в. кн. Яр. Яр., 1264 г.), где целовати хрьстъ означает «целовать крест, икону в подтверждение клятвы, присягать» (Срезн., т. III, стб. 1452). Для древнерусской поры данное устойчивое глагольноименное сочетание являлось частотным [3]. Можно предположить, что целовати крьстъ первоначально обозначало непосредственное целование креста в подтверждение клятвы, то есть князь (или другое лицо) прикладывался губами к священному предмету в знак присяги. Однако, как отмечает Ф.П. Сергеев, «в результате многократного повторения это сочетание становится устойчивым и приобретает переносный смысл – “присягать” (в известной степени утратив первоначальное значение). Появление новой семантики сопровождается появлением новых синтаксических связей, не свойственных отдельным компонентам вне данного сочетания: целовати крьстъ к кому/на чем » [7, с. 12–13]. С утратой актуальности такого действия, как целование креста, остается другая сторона традиционного обряда – присяга. Выражение стало означать «принести присягу» без указания на приложение к священным предметам (кресту, иконе и т. п.). Переосмыслилось все сочетание, произошло сращение значений его компонентов, что свидетельствует о его фразеологизации. Данный оборот являлся общеупотребительным, используясь для описания клятвы, присяги в любых ситуациях, например во взаимоотношениях князей: Изяславъ. С(вя)тославъ. Всеволодъ. целовавше кр(ь)стъ ч(ьс)тныи. къ Всеславу ... (Лавр. лет. ок. 1377 г., л. 56 об.). Однако, обозначая одно из необходимых действий в судопроизводстве, он функционировал и как термин древнерусского делового языка [см.: (Исаев, с. 114)].
Устойчивые сочетания с различными именами образует глагол дати. В прямом значении «передать кому-л. что-л.» он назы- вает действие, в результате которого устанавливается отношение между дающим и принимающим субъектами и отношение владения между субъектом и передаваемым объектом; глагол рассматривается в поле «отношение» (КС ‘владение’, ДС ‘участие двух субъектов’, ‘объект конкретный’, ‘неодушевленный’, ‘передача объекта’). В контексте: А епископу не управивъ того, за все то дати ему слово в день великааго суда (Устав кн. Всеволода о церк. судах, XIV в.) – он сочетается с абстрактным существительным слово «ответ, ответственность» (Срезн., т. III, стб. 419) в позиции объектного уточнителя. Процесс осмысливается как отвлеченный, социально значимый; у глагола сохраняется ДС, отражающая участие двух субъектов (второй субъект не выражен, но может подразумеваться – это Бог, социум и т. д.), а также сема ‘отношение’; социальный характер этого отношения уточняется именем. Все сочетание дати слово выражает значение «отвечать (нести ответственность) за что-л. перед кем-л.». Семы в смысловых структурах глагола и имени дополняют друг друга, образуя единство.
Глагол дати может сочетаться с существительным, означающим явление юридической сферы, например дати судъ в контексте: А чего будет искати мне и моимъ боярамъ и моимъ слугамъ у Новъгородъцовъ и у Волочанъ; а тому всему судъ дати без перевода (Договорн. грам. Тверск. в. кн. Мих. Яр. с Новг., 1301–1302 гг. – Срезн., т. I, стб. 634), где судъ обозначает социальную (правовую) деятельность – «суд, разбор дела, дознание виновности» (Срезн., т. I, стб. 603). Все сочетание приобретает значение по значению имени «осуществить суд, правосудие» (Исаев, с. 104), то есть «судить», и является правовым термином. Глагол дати отвлеченно называет отношение, но здесь – между субъектом и обстоятельствами, в связи с которыми проводится судебное разбирательство.
Отмечено также устойчивое сочетание водити судъ «заводить судебное дело». Например: А за рубежь изъ Новгородьскои волости твоимъ дворяномъ суда не води-ти (Договорн. грам. Новг. с в. кн. Мих. Яр., 1307 г. – Срезн., т. I, стб. 277). Глагол водити в прямом значении «водить» (Срезн., т. I, стб.
277), то есть «направлять движение», является глаголом перемещения (поле «действие и деятельность»), при котором субъект выполняет активную, руководящую роль по отношению к объекту. В приведенном контексте глагол обобщенно выражает деятельность, а имя конкретизирует характер этой деятельности – социальная (правовая), то есть «суд, разбор дела, дознание виновности» (Срезн., т. III, стб. 603). Реализация деятельности субъектом ( дворяне ), как следует из контекста, распространяется только на жителей Новгородской области. Рассмотренное сочетание приобретает терминологическое значение «осуществить суд, правосудие» по значению имени, а глагол обобщенно называет деятельность как процесс.
В рассмотренных и других сочетаниях глагол, как правило, выражает общие семы лексико-семантического поля (‘действие и деятельность’, ‘отношение’ или ‘состояние’) и некоторые семы, отражающие особенности субъекта и объекта (руководящий статус субъекта – во-дити , наличие двух субъектов – дати и т. д.); характер же самого процесса (социальная деятельность, социальные отношения, межличностные отношения и т. д.) уточняется семантикой имени, которое и несет основную смысловую нагрузку. Между глаголом и существительным возникают комплетивные отношения, при которых лексическое значение глагола является недостаточным без значения имени.
Таким образом, в уставах князей и договорных грамотах устойчивые глагольноименные сочетания характеризуются различными семантическими отношениями глагола и имени: обобщенное значение глагола конкретизируется значением имени; прямые значения обоих компонентов «дублируют» друг друга; переосмысливается все сочетание при сращении значений компонентов. Анализ семантики устойчивых глагольно-именных со- четаний дает возможность установить процессы их терминологизации и фразеологиза-ции, обусловливающие развитие лексической системы русского языка.
Список литературы Семантическое взаимодействие компонентов устойчивых глагольно-именных сочетаний в древнерусском деловом языке
- Брицын, М. А. Из истории древнерусских судебных терминов/М. А. Брицын//Филологические науки. -1965. -№ 3. -С. 141-146.
- Виноградов, В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины/В. В. Виноградов//Избр. тр.: Лексикология и лексикография. -М.: Наука, 1977. -С. 118-139.
- Костючук, Л. Я. Некоторые наблюдения над словосочетаниями, промежуточными между устойчивыми и свободными, в древнерусском языке (по грамотам XI-XIV вв.)/Л. Я. Костючук//Учен. зап. Псков. пед. ин-та, кафедр лит. и рус. яз. -Вып. 28. -Л., 1968. -С. 76-84.
- Ларин, Б. А. Очерки по фразеологии/Б. А. Ларин//История русского языка и общее языкознание. -М.: Просвещение, 1977. -С. 125-148.
- Лопушанская, С. П. Развитие и функционирование древнерусского глагола/С. П. Лопушан-ская. -Волгоград: Изд-во ВПИ, 1990. -114 с.
- Лопушанская, С. П. Семантическая модуляция как речемыслительный процесс/С. П. Лопу-шанская//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Филология. -1996. -Вып. 1. -С. 6-13.
- Сергеев, Ф. П. Формирование русского дипломатического языка/Ф. П. Сергеев. -Львов: Выща шк., 1978. -223 с.
- Грам. Новг. Тверск. в. кн. Мих. Яр. с условия-ми договора, 1304-1305 гг. -Грамота Новгорода тверскому великому князю Михаилу Ярославичу с условиями договора, 1304-1305 гг.//Грамоты Великого Новгорода и Пскова/под ред. С. Н. Валка. -М.: АН СССР, 1949. -408 с.
- Договорн. грам. Новг. с в. кн. Яр. Яр., 1270 г. -Договорная грамота Новгорода с тверс-ким великим князем Ярославом Ярославичем, 1270 г.//Грамоты Великого Новгорода и Пскова/под ред. С. Н. Валка. -М.: АН СССР, 1949. -408 с
- Договорн. грам. Новг. с Тверск. в. кн. Яр. Яр., 1264 г. -Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем, 1264 г.//Грамоты Великого Новгорода и Пскова/под ред. С. Н. Валка. -М.: АН СССР, 1949. -408 с.
- Лавр. лет. ок. 1377 г. -Лаврентьевская летопись//Полное собрание русских летописей. Т. 1. -М.: Яз. рус. культуры, 1997. -496 с.
- Устав кн. Всеволода о церк. судах, XIV в. -Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых, XIV в.//Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./под ред. Л. В. Черепнина. -М.: Наука, 1976. -239 с.
- Исаев -Исаев, М. А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов/М. А. Исаев. -М.: Спарк, 2001. -119 с.
- Срезн. -Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т./И. И. Срезневский. -СПб.: Тип. Императ. Акад. наук, 1893-1912. -Т. I. -1893; т. II. -1902; т. III. -1912.