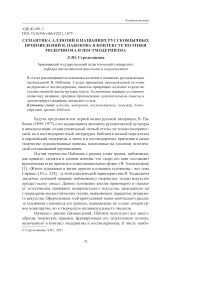Семантика аллюзий в названиях русскоязычных произведений В. Набокова в контексте поэтики модернизма и постмодернизма
Автор: Стрельникова Лариса Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семантика аллюзий в названиях русскоязычных произведений В. Набокова. Следуя принципам неклассической поэтики модернизма и постмодернизма, писатель превращает аллюзию в средство художественной деконструкции текста. Аллюзивные маркеры усложняют семантику названия, придавая произведению дополнительные смыслы и демонстрируя специфику авторского стиля.
Аллюзии, модернизм, постмодернизм, симулякр, декон струкция, ирония, набоков
Короткий адрес: https://sciup.org/146282281
IDR: 146282281 | УДК: 82.091-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.079
Текст научной статьи Семантика аллюзий в названиях русскоязычных произведений В. Набокова в контексте поэтики модернизма и постмодернизма
Будучи представителем первой волны русской эмиграции, В. Набоков (1899–1977) стал выдающимся явлением русскоязычной культуры в западном мире, создав уникальный «новый стиль» не только модернистской, но и постмодернистской литературы. Набоков в полной мере влился в европейский модернизм, а затем и в постмодернизм, применив в своем творчестве художественные приемы, нацеленные на усиление эстетической составляющей произведения.
Изучая творчество Набокова с разных точек зрения, набоковеды, как правило, сходятся в едином мнении, что «ядро его книг составляет ироническая игра приемов и повествовательных форм» (В. Александров) [1]. «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника – вот тема Сирина» [10, с. 224], – в этой классической характеристике В. Ходасевича заключен основной принцип набоковского творчества: только искусство придает всему смысл. Данное положение вполне правомерно и отражает эстетические принципы модернистского искусства, нацеленного на утверждение метапоэтических техник, выявляющих парадигму авторского искусства. Оформлением этой причудливой ткани магического рассказа художника становятся его приемы, выявляющие не только литературное новаторство, но и творческую индивидуальность писателя.
Начиная с ранних произведений, Набоков использует все многообразие творческих приемов, формирующих его эклектичную поэтику, включенную в контекст модернизма и постмодернизма. К числу наибо-
лее характерных приемов набоковского стиля следует отнести аллюзию, направленную на установление особого коммуникативного акта между текстом, читателем и автором. Исходя из значения понятия «аллюзия» ( allusion – намек, шутка), названный стилистический прием содержит в себе, по определению А. Николюкина, «отсылку к известному высказыванию, факту литературной, исторической, а чаще политической жизни либо к художественному произведению» [16, с. 28]. В. Хализев отмечает сходство аллюзий с эзоповым языком, называя их «недомолвками <…> легкие, порой едва приметные касания серьезных, злободневных тем и тех мыслей, которые небезопасно выражать открыто» [18, с. 272].
К набоковскому творчеству также применимо постмодернистское значение аллюзии, выявляющее иронический намек и сближаясь с пародией, доводя все высокое и священное до карнавального осмеяния и фарсового преувеличения. Н. Гребенникова указывает на постмодернистский смысл аллюзии как на «особый способ передачи дополнительной информации» и «декорирования» произведения, подразумевая «определенную степень знания связей между описываемыми явлениями, так как аллюзии вводится в текст без дополнительных ссылок и объяснений… Они могут быть построены по принципу сходства, полярности, несоизмеримости сравниваемых объектов, быть доминантными, локальными или окказиональными, служить средством создания аллюзивной иронии» [6, с.114].
Набоковские аллюзии выстроены на творческих ассоциациях и демонстрируют изменение функциональной направленности языка неклассической литературы, истина которой, по словам Р. Барта, теперь заключается «не в области действия, но она не принадлежит уже и области природы: это маска, указывающая на себя пальцем» [3, с. 132]. Опираясь на аллюзивные маркеры, Набоков создает метатекстовое художественное пространство, для восприятия и понимания которого необходимо напряжение художественного воображения и наличие определенных знаний.
Используя прием аллюзии как ассоциативную игру с другими текстами, фактами, образами и т. п., Набоков дает понять, что произведение не исчерпывается каким-то одним смыслом, а разветвляется на многочисленные корешки-ризомы, заключая в себе лабиринты значений, зависящих от интерпретаций автора и читателя. Семантика аллюзий в названиях набоковских текстов делала их не просто оригинальными, но и показывала новую авторскую стратегию – закрепление в искусстве слова критериев « иррационального, нелогичного, необъяснимого и фундаментально хорошего» [15, с. 472]. Включаясь в концепцию индивидуального стиля писателя, аллюзия способствует композиционной организации текста, выявляя семантические точки сцепления культурных кодов.
На примере творчества Набокова можно видеть, что стилистические приемы у него не касаются серьезных тем и опасных мыслей, утрачивая иное значение, чем знаково-эстетическое. Для стиля Набокова представляется обоснованным то, что «он ценит непредсказуемость момента, капризную неожиданность, которая может пустить под откос железный механизм причиняя и следствия» [5, с. 18]. Обращение писателя к аллюзиям позволяет говорить о формировании новых структурных форм в литературе модернизма, а затем и постмодернизма. Художественные приемы неклассической поэтики разрушали привычные стереотипы восприятия, блокируя процесс понимания прописных истин и погружая читателя в область непонимания, тайны, побуждая разгадывать, что же скрывается за той или иной отсылкой к культурным кодам, пробуждая своего рода эстетические инстинкты. Идентичность человека в модернистском и постмодернистском искусстве устремляется к нулю, выставляя на первый план эстетическое содержание и удовольствие от него.
В романе «Дар» Набоков на онтологическом уровне закрепит эту аллюзию-намек на то, что формой взаимодействия искусства и действительности становится игра, насмешка как комический фактор противостояния реальности. Творческий дар художника, по мнению Набокова, должен проявить свободную игру мысли и фантазии, «пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее» [12, т. 3, с. 180], разрушая высокий пафос серьезного искусства, но сохраняя при этом «безостановочный ход мыслей» [Там же, с. 180]. Исходя из мысли, что реальность нельзя воссоздать, Набоков считал главным в произведении его «иррациональную часть», «связанную с особым стилем, которым она написана» [14, с. 397].
Выявляя специфику своего стиля в приемах письма, Набоков, что впоследствии будут отмечать постмодернисты (например, Деррида, Ле-ви-Строс), стирает различия между «означающим и означаемым», стремясь «преодолеть противоположность чувственного и умопостигаемого, с самого начала придерживаясь уровня знаков» [8, с. 355], изображая взаимоотношения сознательного и бессознательного в искусстве. В аллюзии как приеме, составляющем это новое «эпистемное пространство», выявляется игровое содержание творчества, вливаясь в бахтинскую концепцию карнавализации, побуждая художника быть ироничным и не принимать реальность и человека всерьез.
Постмодернистский иронический модус текстов Набокова соединяется с внешне реалистическим сюжетом классической прозы, аллюзии в данном случае предстают как окказиональные включения известных цитат. Такие «внетекстовые» элементы рассыпаны и рассредоточены буквально по всем произведениям Набокова, позволяя автору продемонстрировать сделанность, искусственность текста, спасая тем самым искусство от банальности реализма.
Аллюзивность просматривается не только непосредственно в тексте, но и на уровне семантики названий произведений писателя, усложняя восприятие и превращая сам текст в загадку. Неявность аллюзий названий набоковских произведений превращают их в словесный фокус художника, давая простор многочисленным интерпретациям. В настоящем исследовании рассмотрена семантика аллюзий в названиях некоторых русскоязычных произведений Набокова периода европейской эмиграции: «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь».
Значимо то, что аллюзии, как и другие набоковские приемы, актуализируют постмодернистский принцип деконструкции, устраняя классический антропоцентрический гуманизм и провозглашая господство эстетики, в частности, самостоятельность художественного языка по отношению к его рациональному содержанию. Как экспериментатор в области стиля и языка, Набоков пытается при помощи модернизированного языка взглянуть на привычные вещи внеисторическим, иронически-отчужден-ным взглядом. Для названий ранних произведений Набокова характерна усложненная семантика, отсылающая к скрытым или явным аллюзиям, создающим эффекты зеркал-перевертышей, иллюзий, иронично маркируя фантастический «мир наизнанку», существующий по исключительно эстетическим законам.
В модернистскую, а затем и в постмодернистскую эпоху заголовок не давал полной и однозначной информации о произведении, ориентируя читателя на ассоциации и поиски скрытых смыслов («Игра в бисер» Г. Гессе, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Превращение» Ф. Кафки и т. п.). Набоков также провоцирует эффект обманутого ожидания читателя, заключая в себе не только литературные, но и авторские аллюзии на ассоциации памяти о прошлом. В названии первого эмигрантского романа Набокова «Машенька» (1926), вышедшем впервые в Берлине, нашли отражение аллюзии на «личную реальность в романтизированном рассказе» [13, с. 61]. В «Предисловии» к роману Набоков имеет в виду именно аллюзии на прошлую жизнь в России, удивляясь тому, что «изощренная имитация могла соперничать с голой правдой» [Там же, с. 62]. Писатель объясняет такое расхождение с действительностью тем, что «по возрасту Ганин был в три раза ближе к своему прошлому, чем я к своему в “Других берегах”» [Там же, с. 62]. Аллюзии на прошлое, заключенные в названии «Машенька» отнюдь не несут в себе прямой отпечаток биографических сведений писателя, что может показаться при первом взгляде.
Судя по названию романа, Машенька должна была присутствовать в качестве главной героини произведения, чего не происходит. В этом и заключается эффект обманутого ожидания, происходит «перекодирова- ние» сложившейся традиции в классической литературе выносить в заголовок имя главного персонажа. Исходя из суждений писателя, «не список событий жизни писателя составляет самую существенную часть его биографии, но история его стиля» [Там же, с. 62]. Невидимая Машенька же выступает своего рода аллюзией памяти, имитацией несуществующего человека. «Это не личность, не фигура, закрепленная в индивидуально-неповторимой форме… это колебание воздуха, это воспоминанье», – такое определение фиктивному образу Машеньки дает Н. Анастасьев [2, с. 99]. В Ганине, как в других героях Набокова, запечатлелась онтологическая идея писателя о том, что жизнь всякого человека – это миф, заключенный в художественную форму. Аллюзия же указывает на художественное соотношение фантазий автора с реальными событиями и персонажами. Ганин лишь делает вид, что имеет то, чего на самом деле у него нет и быть не может. Иллюзии Ганина не переходят в реальную жизнь, напротив, воображаемое устраняет действительное, и герой «исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им» [12, т. 1, с. 112], образ Машеньки уподоблен тени, как «старый дом», оставлен в умирающем прошлом.
Использование писателем приема аллюзии подтверждает набоковскую истину о том, что «все великие романы – это великие сказки» [15, с. 24], в них не может быть ничего подлинного, ведь «для талантливого автора такая вещь, как реальная жизнь не существует – он творит ее сам и обживает ее» [Там же, с. 34] по собственным законам творчества. Согласно постмодернистской концепции симулякров, «можно жить, исходя из идеи искаженной истины» [4, с. 21], так как главенствующей целью писателя становятся художественные эффекты, вводящие читателя в заблуждение по поводу правдивости прочитанного.
Во втором берлинском романе «Король, дама, валет» (1928) Набоков в еще более явной форме использует литературные аллюзии, конструируя полиглотичный текст. Название романа – явная аллюзия на заголовок сказки Г.-Х. Андерсена «Короли, Дамы и валеты», прочитанной Набоковым в эмигрантской газете «Руль». Роман считается одним из самых нерусских произведений писателя, как скажет Георгий Иванов, в нем «старательно скопирован средний немецкий образец, ведь “так по-русски еще не писали”<…> слишком уж явная литература для литературы» [10, с. 179]. Набоков здесь волен в своих фантазиях: «Я мог бы перенести действие КДВ в Румынию или Голландию», – признается писатель в «Предисловии» [13, с. 58]. Игровой принцип сопровождает роман «Король, дама, валет», начиная с названия. Все действие сюжета ассоциируется с игрой, фокусами, иллюзиями, составляющими основу структуры произведения. Писатель, как в зеркальном перевертыше, в противоположном направлении переосмысливает замысел андерсеновской сказки, в которой преображение человека в карточную фигуру воспринимается как трагедия. Жестокость замысла Марты и ее любовника Франца оправдывается творческим способом осуществления убийства Драйера, выступая характерным свойством модернистской литературы, амбивалентно сочетающей в своих сюжетах комическое и трагическое на равноправных положениях. В названии романа также заложена аллюзия на карточную игру, в основе которой лежит обман, фокус. Создавая героев как карточные фигуры, Набоков фиксирует их знаковость не столько как бесчеловечность, сколько как неспособность к творчеству. Не случайно логически продуманное Мартой (дама) и Францем (валет) убийство коммерсанта Драйера (король) не осуществляется, поскольку не соответствует критериям искусства. Они действуют по заранее составленному плану, как автоматы, «не убивают, а устраняют с математическим расчетом», полагая, что нужно «действовать просто, отбросить обманчивые игрушки вроде яда, который найдет экспертиза, вроде револьвера, который годен только, чтобы закурить сигару…» [12, т. 1, с. 236].
Настоящий художник превращает убийство в произведение искусства, руководя процессом игры. Набоков усиливает игровую аллюзию романа, вводя в текст маску автора – фокусника с пародийно искаженным библейским именем Менетекелфарес, по чьей воле происходит представление и затем разрушается, как карточный домик: «… все эти люди – Франц, подруга Франца… – все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук» [Там же, с. 233]. Как в названии романа, так и в его структуре аллюзии сопровождают акт творения художника, соединяя в симбиозе homo sapiens и homo faber , логику человеческого разума и страсть творца. Не обыденная, а театрализованная действительность приобретает значение, устанавливая алогичные связи между миром и человеком. Аллюзивная отсылка персонажей романа к игральным картам становится эстетически оправданной. Семантика аллюзии названия романа нацелена на преодоление человеческого содержания и акцентирование внимания на театрализацию жизни, игру, которая важнее человеческой жизни, опровергая все серьезное и освобождая комическое: «Смех, наконец, вырвался», – говорит в конце Франц [Там же, с. 279]. Как в перевернутом зеркале, в семантике названия аллюзивно присутствует «игра смысла и нонсенса, некий хаос-космос» [7, с.13], устраняющий здравый смысл. Реальное переводится в нереальное, аллюзивно перекликаясь с кэрролловским миром абсурда, разоблаченным Алисой: «Да кто вас боится! Вы же всего-навсего колода карт!» [11, с. 189]. Игровые комбинации Марта и Франца рушатся, «игра ума и случая гаснет, колода отшвыривается – и перед нами остаются лежать Король, Дама и Валет, три плоские карты с давно знакомыми, небрежно стилизованными лицами» [10, с. 42]. Следуя абсурдам Кэрролла, Набоков не отделяет смысл от парадокса, полагая, что причинно-следственные отношения проигрывают эффектам непредсказуемой Судьбы.
В названии романа «Защита Лужина» (1930) заключена амбивалентная аллюзия, проецируясь, с одной стороны, на шахматную стратегию героя в игре с Турати, с другой, выявляется скрытый смысл – защита Лужина от обыденной, нетворческой реальности и переход в идеальный мир игры, в пространстве которой герой смог осуществить свои притязания на вечность. В главном герое шахматисте Лужине проявилось извечное стремление художника заменить приземленную, связанную с действительностью свою сущность, двойником-творцом, демиургом, свободным от бытовых оков и общественных противоречий. Определяя значение Лужина по отношению к реальности, Набоков называет его «выдуманным гроссмейстером», имя которого «рифмуется со словом “illusion”» [13, с. 46]. На примере Лужина обозначается проблема существования творческой личности в условиях окружающей действительности, а также враждебные ей силы: «все с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений» [12, т. 2, с. 72].
В духе модернизма Набоков эстетизирует смерть, соотнося ее с творческим состоянием эскапистской личности, не приспособленной к обывательской жизни. Не случайно в пространство романа Набоков вводит символы-знаки грядущей смерти Лужина умирающих в процессе развития действия персонажей (мать, старик-шахматист). Смерть ассоциируется с «чудовищной игрой на призрачной, валкой, бесконечно расползавшейся доске» [Там же, с. 38], становясь в то же время спасением для творческой натуры Лужина: «… и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним» [Там же, с. 151]. Семантика аллюзии в названии романа заключает в себе игру слов, загадку, предназначенную для читателя-интеллектуала. Лужин выходит из жизни, но не из игры, попадая в шахматную вечность-бездну, распавшуюся на «бледные и тёмные квадраты» [Там же, с. 152]. Смерть же перестает быть событием реальной жизни, становясь симулякром-парадоксом, опровергающем здравый смысл.
Семантика названия романа «Приглашение на казнь» часто соотносится с сюрреалистическим абсурдом, игрой слов и противоречит здравому смыслу. В «Предисловии» к английскому переводу «Приглашения на казнь» Набоков так поясняет семантику перевода названия: «… по-русски называется “Приглашение на казнь”. Я бы даже пренебрег неблагозвучным повторением суффикса и передал это как “Invitation to an Execution”, но ведь, с другой стороны, я и на родном языке скорее сказал бы “Приглашение на отсечение головы” (“Invitation to a Decapitation”)» [13, с. 40]. Семантика названия романа не ограничивается единым значением, а представляет собой разветвление аллюзий, сближаясь с постмодернистской ризоматикой, распадаясь на «множество корней» и раз- рушая линейность слова. Заложенные в названии романа аллюзии в полной мере реализуются в тексте произведения, выявляя фантастический замысел автора, его умение манипулировать словом и своими героями. В первую очередь, в названии романа содержится аллюзия на театральное действо в духе мистериального представления. Автор показывает, что он и есть фокусник или режиссер своего личного театра, «творец в том особом смысле, который я пытаюсь передать, – непременно чувствует, что, отвергая мир очевидности, вставая на сторону иррационального, нелогичного, необъяснимого…» [15, с. 472].
В представлении П. Бицилли, в названии набоковского романа содержится аллюзия на вечные вопросы бытия, которые Набоков рассматривает в контексте мистериального фантастического действа: «Жизнь – тезис. Смерть – антитеза, после которой человеческое сознание ждет какого-то синтеза, вневременного, окончательного осуществления смысла прожитой жизни» [10, с. 216]. В набоковской онтологии антитеза жизни и смерти – игра, разрушающая пафос высоких материй и идей, иронично утверждая относительность подлинности мира и человека. «Приглашение на казнь» – это еще и своего рода выставленная напоказ тяга к жестокости, стремление вызвать эстетический шок, перелицовывание мимесиса и классической традиции.
Но для Набокова дело состоит не только в стремлении к оригинальности заголовка. В названии романа прослеживается игра аллюзий на стихотворение Бодлера «Приглашение к путешествию» ( L’ invitation au voyage , 1855), в котором слышится призыв к романтическому уходу в некий идеальный, схожий с раем, мир бесконечного счастья. Обращение Набокова к бодлеровским мотивам во многом спровоцировано неудачным переводом этого же стихотворения Мережковским. Мережковский назвал свой перевод «Приглашение в путь» (опубликован в № 3 журнала «Вестник Европы» за 1885 г.), сам ужаснувшись его звучанию спустя долгие двадцать пять лет. Набоков не терпел слишком вольных переводов любимых им авторов, настаивая на точности и считая самым большим злом, когда переводчик «принимается полировать и приглаживать шедевр, гнусно приукрашивая его, подлаживаясь к вкусам и предрассудкам читателей» [14, с. 394]. О низком качестве этого «творения» поэта «серебряного века» с его диалектичными историософскими взглядами Набоков с презрением высказался в эссе «Искусство перевода» (1941): «Еще более гнусным фарсом отдает история, которая произошла с утонченнейшим, романтическим стихотворением Бодлера “Приглашение к путешествию” (“Mon enfant, ma soeur, Songe à la douceur…”). Русский перевод принадлежит перу Мережковского, обладавшего еще меньшим поэтическим талантом, чем Бальмонт. Начинается он так:
Голубка моя, Умчимся в края.
Стихотворение это в переводе немедленно приобрело бойкий размер, так что его подхватили все русские шарманщики» [Там же, с. 398]. В подобном же духе высказывалась о ставшем площадной песнью стихотворении Бодлера в переводе Мережковского И. Одоевцева: «Он (Мережковский. – Л. С .) приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту “Голубку” играли» [17, с. 53].
Иным вариантом игры аллюзий в названии «Приглашение на казнь» может служить западная традиция театрализации и эстетизации казни, убийств, злодеяний как массового зрелища, предназначенного для развлечения публики. В модернистском искусстве эстетическое отношение к разным формам насилия продолжило свое распространение в театральных теориях А. Арто, Н. Евреинова. В многочисленных исследованиях, как правило, название романа воспринимается с исторической точки зрения как завуалированная критика сталинских репрессий, и предзнаменование фашизма (В. Варшавский, А. Долинин, ). Так, А. Долинин отмечает спроецированность образа Цинцинната «на несколько исторических, мифологических и литературных прототипов – казнь Сократа, обезглавливание Иоанна Крестителя, легенду о Тассо (через сонет Бодлера “Тасс в темнице”)…» [9].
Набоков иронизирует над теми, кто попытается превратить его в «поставщиков идеологических иллюстраций и романизованной публицистики» [13, с. 41]: «Сказалось ли на моей книге, что все это для меня – один и тот же унылый и безобразный фарс – настоящего читателя этот вопрос должен занимать не более, чем меня самого» [Там же, с. 40]. В набоковском зазеркалье мир представлен в искривленном виде как перевертыш реальности, запечатленный художником, который всегда скрыт под маской и появляется как двойник автора – «печальный, сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и во всех отношениях восхитительный Пьер Делаланд, которого я выдумал» [Там же, с. 41].
Являясь ироническим антиподом реальности, название романа отсылает к псевдомистериальному действу, указывая на неотъемлемое свойство набоковской поэтики – пародийно-фарсовая театрализация действительности. Семантика аллюзий в названии романа «Приглашение на казнь» образует, говоря словами Ж. Делеза, «серию парадоксов, образующих теорию смысла» [7, с. 13], где «смысл – это несуществующая сущность», граничащая с нонсенсом. Выстраивая свою систему эстетических смыслов, Набоков превращает казнь в театральное представление, побуждая читателя поверить в ее подлинность, но на самом деле гибель Цин-цинната – лишь симуляция смерти, так как писатель-кукловод не может существовать без своих кукол.
Можно сделать вывод, что в текстовом пространстве набоковских произведений аллюзия обнажает игру значений, неявный смысл всего текста, делая его загадочным и сложным. В контексте набоковских аллюзий выявляется многоуровневость смыслов произведения, включенного в широкий культурный контекст разных эпох и говорящего на языке эстетических символов. В семантике аллюзий раскрываются механизмы индивидуального стиля писателя, выявляя авторскую саморефлексию на искусство и мотивируя к ироничной интерпретации не только названия, но и всего произведения.
About the author:
STRELNIKOVA Larisa Yurevna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Russian Philology and Journalism, Armavir State Pedagogical University (352900, Armavir, Chicherin str., 130), e-mail: lorastrelnikova@ yandex.ru.
Список литературы Семантика аллюзий в названиях русскоязычных произведений В. Набокова в контексте поэтики модернизма и постмодернизма
- Александров В. Е. Набоков и потусторонность [Электронный ресурс] // RoyalLib.com. URL: http://royallib.ru/read/aleksandrov_v/nabokov_i_potustoronnost.html#0 (дата обращения 12.02.2021).
- Анастасьев Н. А. Одинокий король. М. : Центрполиграф, 2002. 525 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М. : Прогресс, 1989. 616 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула : Тульский полиграфист, 2013. 204 с.
- Бойд Б. Набоков. Русские годы. Биография. СПб. : Симпозиум, 2010. 720 с.
- Гребенникова Н. С. Зарубежная литература XX века. М. : Владос, 1999. 128 с.
- Делез Ж. Логика смысла (вторая половина). М. : Раритет ; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. 480 с.
- Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М. : Прогресс. 2000. С. 407–426.
- Долинин А. В. Набоков и советская литература («Приглашение на казнь»). [Электронный ресурс] // Academia. URL: https://www.academia.edu/41372980/ (дата обращения 12.02.2021).
- Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве В. Набокова : Критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 688 с.
- Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. СПб. : Азбука, 2013. 416 с.
- Набоков В. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Правда, 1990.
- Набоков В. В.: pro et contra. СПб. : Русский Христианский гуманитарный ин-т, 1997. 960 с.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М. : Независимая газета, 1999. 439 с.
- Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М. : Независимая газета, 1998. 512 с.
- Николюкин А. Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М. : Интелвак, 2001. 1600 с.
- Одоевцева И. В. На берегах Сены. М. : Худож. лит., 1989. 333 с.
- Хализев В. Е. Теория литературы. М. : Высш. школа, 1999. 398 с.