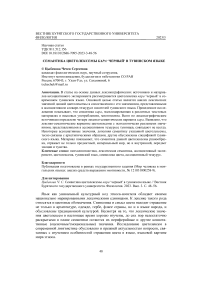Семантика цветолексемы кара ‘черный' в тувинском языке
Автор: Цыбенова Ч.С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе данных лексикографических источников и материалов ассоциативного эксперимента рассматривается цветолексема кара ‘черный’ в современном тувинском языке. Основной целью статьи является анализ лексических значений данной цветолексемы в сопоставлении с его значениями, представленными в ассоциативном словаре-тезаурусе носителей тувинского языка. Проведенное исследование показывает, что семантика кара, эксплицированная в различных текстовых материалах и языковых употреблениях, многозначна. Всего по лексикографическим источникам определено четыре лексико-семантических варианта кара. Выявлено, что лексико-семантические варианты цветолексемы с психологически реальными значениями, представленными в ассоциативном тезаурусе тувинцев, совпадают не всегда. Некоторые ассоциативные значения, дополняя семантику указанной цветолексемы, тесно связаны с архетипическими образами, другие обусловлены спецификой тувинского языка. Материал показывает, что семантика данной цветолексемы разнообразна, отражает не только предметный, материальный мир, но и внутренний, передает эмоции и чувства.
Психолингвистика, лексическая семантика, ассоциативный эксперимент, цветолексема, тувинский язык, символика цвета, ассоциативный тезаурус
Короткий адрес: https://sciup.org/148327269
IDR: 148327269 | УДК: 811.512.156 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-3-48-56
Текст научной статьи Семантика цветолексемы кара ‘черный' в тувинском языке
Цыбенова Ч. С. Семантика цветолексемы кара ‘черный' в тувинском языке // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 3. С. 48‒56.
Язык как уникальный культурный код этноса-носителя обладает своими национально маркированными лексическими единицами. К лексике такого рода относятся и цветовые обозначения. Символика и смысл цвета находят отражение не только в архитектуре, одежде, гербе, флаге страны, но и в языке народа, и обусловлены традиционной культурой. Несмотря на то, что лексические значения цветолексем в настоящее время хорошо изучены, до сих пор недостаточно раскрытыми в плане семантики остаются их периферийные и другие коннотативные (оценочные/эмоциональные) значения. Исследование цветолексем в современной лингвистике обусловлено и прежней актуальностью вопросов, связанных с изучением особенностей отражения цвета в языке, языковой картине мира этноса.
Для анализа семантических компонентов лексемы в настоящее время применяются различные методы. Универсальными и подходящими в этом плане можно назвать психолингвистические методы исследования. Подобный междисциплинарный подход позволяет изучить не только лексические значения слова, но и выявить его лексико-семантический потенциал, детально определить функциональные признаки. Специфику и отличие лексикографического и психолингвистического описания лескем отмечает Е. И. Маклакова и считает, что в словарных изданиях семантические характеристики слова даются не в полном и исчерпывающем варианте, а также: « … психолингвистическое описание слов позволяет выявить ранее не отраженные в существующих словарных изданиях их денотативные, коннотативные (оценочные/эмоциональные) и некоторые функциональные семантические признаки и новые значения» [8, с. 54]. С точки зрения психолингвистики это может быть связано с «психологически реальным значением слова» (по И. А. Стернину). Под «психологически реальным значением слова» И. А. Стернин понимает упорядоченное единство всех семантических компонентов, реально связанных с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка [11, с. 172]. Поэтому психолингвисты полагают, что «Психолингвистическое значение обычно оказывается шире и объемней, нежели его лексикографический вариант» [12, с. 24]. Таким образом, в статье рассматривается семантика цветолексемы кара ‘черный’ в тувинском языке на основе образносмысловых связей, представленных в ассоциативном словаре-тезаурусе носителей тувинского языка, и типовых контекстов его употребления как в разговорном языке, так и в текстах фольклорных произведений.
В рамках исследования нами использованы материалы, полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента с тувинско-русскими билингвами [18]. Всего было обработано 100 анкет на русском языке и 100 анкет на тувинском. В итоге на данное цветообозначение на тувинском языке получена 41 реакция. Результаты эксперимента в исследовании представлены в виде таблицы. В первую часть таблицы включены частотные реакции, представляющие собой ядро ассоциативного поля, во вторую — единичные, образующие периферию. Значения, представленные в ассоциативном поле, дополняются значениями из типовых контекстов его функционирования. В первую очередь привлечены словарные статьи из лексикографических источников, затем рассмотрены языковые модели и устойчивые выражения, существующие в языке и речи носителей тувинского языка, образцы устного народного творчества тувинцев.
Черный цвет, являясь основным ахроматическим цветом, во многих культурах преимущественно ассоциируется с негативными чувствами, темнотой, ночью, плохими деяниями. Вместе с тем черному свойственны и специфические смыслы, основанные на мировоззренческом опыте того или иного этноса. В тувинском языке символика черного цвета многозначна. Материалы фольклорных текстов показывают, что данная цветолексема связана с широким кругом предметов и явлений окружающей действительности. Черный в тувинской лингвокультуре может передавать как негативные, так и положительные качества и свойства. Как пишет С. Ч. Донгак, «… кара в тувинском восприятии принимало оттенки от обозначения чистоты, возвышенности, богатства, роскоши, могущества и нежности до проявления низкого, подлого или нищеты и бесправия» [2, с. 216]. Например, в следующих строках черный цвет выражает могущество и силу:
Чтобы [стрелы] не отлетали назад И от стальной скалы при стрельбе Стальные наконечники стрел
Шестидесяти шивишкин ( зд. слуги, наемники), Велел проварить, оказывается, В черной пене
Черного озера [2, с. 217].
В том же фольклорном тексте черный символизирует богатство и роскошь:
Богатырь же надел, что отец надевал, когда был молодым:
Черные юфтевые идики ( зд. сапоги),
Черный шелковый тон ( зд. национальное пальто) ,
Шапку из меха черного соболя … [2, с. 217].
Исследование цветообозначений на материале тюркских языков академика А. Н. Кононова также показало, что черный имеет широкую семантику. Всего им выделено 4 основных значения: 1) 'черный’, 'темный’, 'мрачный’, 'суровый’, 'печальный’, 'несчастный’; 2) 'скот’, 'толпа’, 'народ’, 'войско’; 3) 'суша’, 'земля’; 4) 'холм', 'сопка’, 'высокий бугор’. Данное цветообозначение широко используется как первый элемент составных этнонимов, топонимов, употребляется в личной ономастике. Из дополнительных значений А. Н. Кононов отмечает следующие значения — ‘большой’, ‘крупный’, ‘главный’, ‘великий’, ‘сильный’, ‘чистый’ и др. [6, с. 161‒169]. Большинство указанных им значений характерно и для тувинского языка.
В лексикографических источниках тувинского языка кара толкуется следующим образом: 1. 1) ‘черный’; ‘темный’ 2) ‘вороной’ ( о масти лошади ); 3) полигр. ‘жирный’; 4) ‘бесснежный’; 5) уст. ‘простой’; ‘светский’ ( не духовного сословия ). 2. 1) ‘зрачок’; 2) ‘шелуха’ ( зерна ); 3) ‘мишень’, ‘цель’; 4) ‘подозрение’. 3. ‘очень’, ‘совершенно’, ‘совсем’ [16, с. 226]. В этимологическом словаре тувинского языка кара переводится как ‘черный’, ‘темный’; ‘вороной’. Автором словаря кара определяется как общетюркское слово, имеющее соответствия в монгольском и алтайском языках. Исходным значением кара считается ‘черный, темный (близкий к черному)’ [14, с. 96]. Наибольший объем словарной статьи на данную цветолексему содержится в толковом словаре тувинского языка, где выделено всего 19 значений [15, с. 68].
Анализ содержания семантического объема данной цветолексемы в рассмотренных лексикографических источниках и его контекстуальных употреблениях позволяет нам условно выделить следующие основные лексико-семантические варианты (ЛСВ): 1) значение, связанное с локальным цветом (ЛСВ 1), т. е. основной, неизменный цвет, присущий самому предмету или явлению: ‘черный’, ‘темный’, ‘вороной’; 2) переносное значение (ЛСВ 2): ‘жирный’, ‘бесснежный’, ‘простой’, ‘светский’ и др.; 3) периферийное значение (ЛСВ 3): ‘зрачок’, ‘шелуха’ ( зерна ), ‘мишень’, ‘цель’, ‘подозрение’; 4) коннотативное значение (ЛСВ 4): ‘очень’, ‘совершенно’, ‘совсем’. Кроме того, в функционально-прагматическом плане кара в тувинском языке может обозначать: 1) признак лица, предмета или явления; 2) предмет, лицо или явление; 3) характеристику действия.
Другие дифференциальные и интегральные компоненты семантики кара можно проследить и выявить из материалов ассоциативного эксперимента. Так, по результатам нашего исследования, ассоциативное поле на слово-стимул кара ‘черный’ выглядит следующим образом (табл. 1):
Таблица 1
Ассоциативное поле кара ‘черный' (41)
eц/нYг ‘цвет’ (20); ак ‘белый’ (10); сагыш ‘душла/помыслы’ , карактар ‘лиаза’ (7); сеткил ‘помыслы’ , суг ‘родник’ (4); чаш ‘коса’ , дYн ‘ночь’ (3); киш ‘соболь’ , пес ‘ткань, материя’, чодураа ‘черемуха’ , идик ‘обувь’ , булут ‘туча’ , куш 'глухарь' хее ‘сажа’ , дыт ‘лиственница’ , хемYP ‘уголь’ (2) ________________________________________________________ даш ‘камень’, тос ‘кора’ , хөрзүн ‘почва’ , Хаак назв. насел. пункта ‘Кара-Хаак’ , кыш ‘зима’ , aжыг-шYЖYг ‘горе’ , бодал ‘плохие помыслы’ , мен ‘родинка’ , ойаар зд. ‘очень похожий’ , сарыг ‘желтый’ , диис ‘кот’ , шаар хой ‘тьма овец’ , дYмбей ‘тьма’ , бак ‘зло’ , хүрең ‘коричневый’ , хүл ‘зола’ , аът ‘конь’ , күш ‘сила’ , паш ‘котел’ , муңгарал ‘печалъггруспьъ’ , Даг ‘Ripa-Даг’ , инек ‘корова’ , менги астрол. ‘знак, метка’
Как видим, в ядре данного поля наиболее частотным оказался гипероним ец ‘цвет’. Данная реакция представляет собой суперординатную реакцию. Как отмечает А. А. Залевская, в некоторых языках цветообозначения-стимулы вместе с коррелятами слова цвет могут образовывать привычные для носителей языка словосочетания [4, с. 38-40]. Вероятно, «психологически реальное значение» у суперординатных реакций менее яркое и чаще всего совпадает с первыми, основными значениями, представленными в словарях. Как основное значение ец зафиксирован в толковом словаре в составе словосочетания — хемур, хее ышкаш ецнуг ‘подобно цвету угля, сажи’ [15, с. 66].
Согласно результатам ассоциативного эксперимента черный ассоциируется и с внутренним миром человека: бодал, сагыш, сеткил ‘мысли, помыслы, душа, намерения’. Аналогичные сочетания часто встречаются в текстовых употреблениях. Например, данный цветообраз отражен в устном народном творчестве тувинцев — известная сказка «Ак-сагыш биле Кара-сагыш» повествует о двух братьях, младший из которых был честным, добрым ( Ак сагыш , букв. ‘Добрая душа’), а старший слыл корыстным и жадным ( Кара сагыш , букв. ‘Тем-ная/плохая душа’). К частотным реакциям также относится реакция-антоним ак ‘белый’. Данные реакции очевидно объясняются такими противоположными понятиями, как свет и тьма, добро и зло, день и ночь и т. д. Эти архетипические образы заложены глубоко в сознании и мышлении человека и тесно связаны с коллективным бессознательным. Поэтому их следует относить к универсалиям, свойственным всему человечеству.
Менее частотными оказались реакции, связанные с физическими качествами, внешними характеристиками предметов и лиц. Данные ассоциативные пары олицетворяют красоту, молодость, зрелость, могущество, чистоту, силу: кара чаш ‘черная коса’, кара карактар ‘черные глаза’, кара чодураа ‘спелая черемуха’, кара киш ‘черный соболь’, кара дыт ‘большая лиственница’, кара куш ‘физическая сила’, кара суг ‘родник’. Семантика кара передает здесь оценку положительного характера и соотносится с ЛСВ 2. В отдельную группу следует отнести значения, связанные с предметами и явлениями, где черный может быть их исходным цветом — кара дун ‘темная ночь’, кара пес ‘черная ткань, материя’, кара идик ‘черная обувь’, кара куш ‘глухарь’, кара булут ‘черная туча’, кара хөө ‘сажа’, кара хемур ‘уголь’ кара даш ‘черный камень’, кара тос ‘черная кора’, кара хөрзүн ‘почва’, кара мең ‘черная родинка’, кара дүмбей ‘тьма’, кара хүл ‘зола’, кара диис ‘черный кот’, кара паш ‘черный котел’, кара аът ‘вороной конь’, кара инек ‘черная корова’, кара мецги ‘черный знак’ (зд. в астрологическом значении) или ‘черная родинка’. В указанных сочетаниях семантика кара соответствует ЛСВ 1.
Отметим, что некоторые ассоциативные пары имеют специфику, связанную с структурными особенностями тувинского языка. Семантика кара в этих сочетаниях размыта. По типу связи они определяются как синтагматические ассоциативные пары. Синтагматический тип ассоциативной связи, по нашему мнению, может быть продиктован структурой языка и встречается в языке как готовое клише, штамп. Так, в ассоциативных парах кара суг ‘родник’ ( зд. в значении ‘чи-стый/прозрачный’, ‘подземный’) и кара куш ‘глухарь’ ( зд. кроме ‘черного’ возможно значение ‘большой’) цветолексема кара не имеет значения ‘черный’. Эти сочетания являются сложными словами, которые, как и парные слова, только с цветолексемой-стимулом кара составляют единую лексическую единицу. Ассоциативные пары, где кара выполняет функцию интенсива, также основаны на синтагматической связи: кара ойаар ‘очень похожий’ ( зд. разгов. вместо кара олчаан ), кара куш ‘грубая/физическая сила’, кара шаар хой ‘многочисленное стадо овец’. По данной модели построены и топонимы: кара → Даг — гора Кара-Даг ( зд. в значении ‘большая’, ‘богатая’), кара → Хаак ‘ивняк, ивы’ — название местности Кара-Хаак ( зд. в значении ‘много’, ‘множество’).
Как и в лексикографических источниках, в материалах эксперимента цветолексема кара встречается в функции интенсива. Проведенное Э. К. Аннай исследование функционирования прилагательных-цветообозначений кара ‘черный’, көк ‘синий’ и кызыл ‘красный’ в тувинском языке показало, что они могут широко употребляться в экспрессивной функции. Среди указанных цветообозна-чений кара чаще выступает в качестве усилителя действия, признака [1]. По ее мнению, «В отличие от других тюркских языков, лексема кара сочетается не только с именами существительными, но и более свободно вступает в связь с прилагательными и наречиями, что приводит к формированию усилительного значения, благодаря которому эта лексема выступает как средство выражения экспрессивности» [1, с. 105]. В материалах эксперимента кара в функции интенсива представлена в следующих ассоциативных парах: кара шаар хой ‘многочисленное стадо овец’, кара бак ‘черное зло’, кара муцгарал ‘большая печаль’, кара ойаар (зд. разгов. вместо олчаан ) ‘очень похожий’, кара дYмбей ‘черная тьма’, кара ажыг-ШYЖYг ‘черное горе’. В выявленных моделях кара преимущественно имеет оценку отрицательного характера.
В полученном материале необходимо отметить реакции, связанные с языковыми особенностями. К примеру, цветолексема кара может выполнять функцию не только имени прилагательного ( кара ^ бак ‘черное зло’), но и имени существительного ( кара ^ бак ‘чернота — это зло’). В этом случае ассоциативная связь будет построена согласно парадигматической модели. Подобных ассоциативных пар в поле достаточно много: кара → дүмбей ‘чернота/черный цвет — это тьма’, кара ^ муцгарал ‘чернота, черный цвет — это печаль’ и т. д.
Поэтому в тувинском языке статус некоторых частей речи не до конца определен. В «Грамматике тувинского языка» указывается, что четкой грани между прилагательным и именем существительным в тюркских языках, в том числе тувинском, нет [5, с. 179]. В настоящее время в тувинском языкознании статус имен прилагательных часто определятся на основе их функций. А. А. Сюрюн, рассматривая проблему выделения имен прилагательных и наречий в тувинском языке, отмечает, что традиционное выделение частей речи согласно грамматике индоевропейских языков для тюркских языков невозможно [13]. Как она отмечает, «материал тувинского языка не дает оснований для выделения “прилагательных” и “наречий” в качестве двух самостоятельных классов слов (частей речи)» и поэтому можно говорить лишь о функциональных группах атрибутивных слов [13, с. 176]. Данная проблематика характерна для многих языков Сибири. Например, в экспериментальном исследовании, направленном на выявление особенностей трансформации языкового сознания бурят, Г. А. Дырхеева отмечает, что в бурятском языке слово буряад ‘бурятский, бурят’ можно рассматривать и как существительное, и как прилагательное или слова типа hайн ‘хороший, добрый, хорошо’ могут быть и прилагательным, и наречием [3, с. 24]. С точки зрения словообразования это слова, образованные конверсионным способом. По мнению Д. Ш. Харанутовой, «в силу своей разноречивости и сложности взаимоотношений между мотивирующим и мотивированным проблема конверсионного способа образования слов вызывает разные мнения» [17, с. 43]. Как видим, среди исследователей нет единого мнения по данному вопросу и подобные слова требуют дальнейшего тщательного анализа.
Еще одним значением цветолексемы кара , которое не зафиксировано в ассоциативном тезаурусе и в некоторых лексикографических источниках, является семантика, передающая интимность, близость. В этом значении она зафиксирована только в толковом словаре под значением 5 «Ынак кижизи, ынаа — Любимый, возлюбленный» [15, с. 66]. В целом такие обращения к любимому, близкому человеку были распространены в тувинском языке досоветского периода, часто в разговорной речи: багай кара эжимни — букв.‘мой бедный друг/любимый’ , анай-карам, чараш-карам, хөлчүң-карам, карам — ‘дорогой’, ‘любимый’, ‘возлюбленный’ . Довольно часто указанные слова встречаются в языке песенных текстов называемых кожамык , близких по исполнению и содержанию к жанру частушек, припевок. Например,
Көвей улус аразында Хөлчүң-карам караа чылыг.
«Среди многочисленного народа Милее всех моя возлюбленная» ( зд. букв. ‘теплые глаза моей возлюбленной') [19, с. 335].
Обстоятельный анализ кара в указанном значении представлен в исследовании И. М. Кошкендей [7], также их рассматривала К. С. Ондар [10]. Отсутствие указанного значения, связанного с близким окружением в ассоциативном тезаурусе современных носителей тувинского языка, скорее всего, говорит о том, что кара в данном значении переходит в разряд архаизмов, постепенно выходит из употребления. Интересно отметить, подобную тенденцию с цветообозначением хара ‘черный’ в бурятском языке. Например, данная цветолексема в качестве собственного имени или одного из компонентов имени раньше была более распространенной. Материалы «Словаря бурятских личных имен» показывают, что в основном все они широко бытовали до XX в.: Хара (XIII колено в антропологической таблице — 1841–1860 гг.), Хара Могсоон ‘черный куцый / черный короткий’ (XV колено в антропологической таблице — 1881–1900 гг.), Хара Хүбүүн ‘черный мальчик’ (VI колено в антропологической таблице — 1701–1721 гг.) [9, с. 236]. В современном бурятском языке встречаются фамилии Харанохоев (от хара нохой ‘черная собака’), Харахинов (от хара үхин ‘черная, смуглая девушка’) и др. Личные имена с данной цветолексемой практически не встречаются.
Таким образом, исследование показывает, что цветовое восприятие, являясь универсальным, в каждой лингвокультуре обладает своими уникальными смыслами и значениями. Рассмотренные ассоциативные связи цветолексемы кара показывают, что в тувинской лингвокультуре черный цвет, как и во многих языках, связан с семантикой негативного характера. Вместе с тем в тувинском языке черный может иметь широкий спектр положительных коннотаций, связанных с зрелостью, чистотой, богатством. Как и ожидалось, ассоциативный тезаурус цветолексемы кара оказался шире и объемней, чем семантика и символика, представленные в текстовых употреблениях. Материал исследования подтверждает, что ассоциативный тезаурус отражает актуальные на данный момент развития языка значения, которые используются носителями языка. Тогда как в текстах, в письменных источниках могут быть зафиксированы выходящие из употребления смыслы. Кроме этого, результаты подтверждают полифункциональность данной цветолексемы, а значит ее широкую употребляемость в языке современных носителей тувинского языка.
Список литературы Семантика цветолексемы кара ‘черный' в тувинском языке
- Аннай Э. К. Лексемы кара ‘черный’, көк ‘синий’, кызыл ‘красный’ как экспрессивные средства в тувинском языке // Вестник НГУ. Сер. История, филология. 2016. Т. 15, № 9: Филология. С. 93–111. Текст: непосредственный.
- Донгак С. Ч. Цвет и его символика в тувинской кочевой культуре // Ученые записки / ответственный редактор В. Д. Март-оол. Кызыл: Типография Госкомитета РТ по печати и информации, 2004. Вып. XX. 418 с. Текст: непосредственный.
- Дырхеева Г. А. Бурятский язык в условиях двуязычия: особенности трансформации языкового сознания (по результатам ассоциативного эксперимента): монография / ответственный редактор Б. Д. Цыренов; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2020. 236 с. Текст: непосредственный.
- Залевская А. А. Некоторые проявления специфики языка и культуры испытуемых в материалах ассоциативных экспериментов // Этнопсихолингвистика / ответственный редактор Ю. А. Сорокин; АН СССР, Ин-т языкознания. Москва: Наука, 1988. 190 с. Текст: непосредственный.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. Москва: Вост. лит-ра, 1961. 471 с.
- Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник 1975 / ответственный редактор А. Н. Кононов. Москва: Наука, ГРВЛ, 1978. С. 159–179. Текст: непосредственный.
- Кошкендей И. М. Лексема кара в текстах тувинских народных песен и припевок // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 3(82). С. 433‒435. Текст: непосредственный.
- Маклакова Е. А. К вопросу об экспериментальном описании семантики языковых единиц // Вопросы психолингвистики. 2022. № 2(52). С. 53‒64. Текст: непосредственный.
- Митрошкина А. Г. Словарь бурятских личных имен. Опыт лингво-социально-локально-хронологического словаря / ответственный редактор В. И. Семенова. Иркутск: Репроцентр А1, 2008. 384 с. Текст: непосредственный.
- Ондар К. С. Ласковые слова, обращенные к любимому человеку, в тувинских частушках // Языкознание: материалы 58-й Международной научной студийной конференции (10–13 апреля 2020 г.) / Новосибирский государственный университет. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. 92 с. Текст: непосредственный.
- Стернин И. А. Значение в языковом сознании: специфика описания // Вопросы психолингвистики. 2006. № 4. С. 171‒179. Текст: непосредственный.
- Стернин И. А., Саломатина М. С. Семантический анализ слова в контексте / под редакцией И. А. Стернина. Воронеж: Истоки, 2011. 150 с. Текст: непосредственный.
- Сюрюн А. А. Проблема выделения «прилагательных» и «наречий» в тюркских языках (на материале тувинского языка) // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2007. № 3. С. 165‒177. Текст: непосредственный.
- Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка: в 4 томах. Т. 3. К, Л. / Тув. ин-т гуманит. исслед. / ответственный редактор Д. А. Монгуш. Новосибирск: Наука, 2004. 438 с. Текст: непосредственный.
- Толковый словарь тувинского языка. Тыва дылдың тайылбырлыг словары: с переводом значений слов и устойчивых словосочетаний на рус. яз. / составитель А. К. Дел-гер-оол и др.; под редакцией Д. А. Монгуша. Новосибирск: Наука, 2011. Т. 2: К-С. 795 с. Текст: непосредственный.
- Тувинско-русский словарь (около 22 000 слов) / под редакцией Э. Р. Тенишева. Москва: Советская энциклопедия, 1968. 648 с. Текст: непосредственный.
- Харанутова Д. Ш. Словообразовательные процессы в монгольских языках: проблемы и перспективы // Вестник Бурятского госуниверситета. Филология. 2022. № 3. С. 41‒47. DOI: 10.18101/2686-7095-2022-3-41-47. Текст: непосредственный.
- Цыбенова Ч. С. Современная языковая ситуация в Республике Тыва: социопсихо-лингвистический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2013. 24 с. Текст: непосредственный.
- Язык и фольклор народов Сибири и Дальнего Востока в рукописных текстах середины XX — начала XXI века / ответственный редактор Т. А. Голованева, Н. Н. Федина; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. Новосибирск: Гео, 2020. 448 с. DOI: 10.21782/В 978-5-6043022-4-8. Текст: непосредственный.