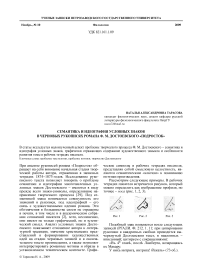Семантика и идеография условных знаков в черновых рукописях романа Ф. М. Достоевского «Подросток»
Автор: Тарасова Наталья Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 10 (104), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется малоизученный аспект проблемы творческого процесса Ф. М. Достоевского - семантика и идеография условных знаков, графически отражающих содержание художественного замысла и особенности развития темы в рабочих тетрадях писателя.
Проблемы текстологии, проблемы поэтики, творчество достоевского
Короткий адрес: https://sciup.org/14749501
IDR: 14749501 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Семантика и идеография условных знаков в черновых рукописях романа Ф. М. Достоевского «Подросток»
При анализе рукописей романа «Подросток» обращает на себя внимание начальная стадия творческой работы автора, отраженная в записных тетрадях 1874–1875 годов. Исследование рукописного текста позволяет говорить о проблеме семантики и идеографии многочисленных условных знаков Достоевского – имеются в виду прежде всего знаки-символы, определявшие направление творческого процесса [29]. Под семантикой знака понимается совокупность его значений в рукописи, под идеографией – его связь с художественными идеями романа. Эти обозначения в большинстве своем не отражены в печати, в том числе и в академическом собрании сочинений писателя [2], хотя, несомненно, они имеют не только графический, но и эстетический смысл. Анализ условных знаков Достоевского показывает отношение автора к литературной традиции, значение христианских представлений в формировании художественных идей на стадии черновых записей и в окончательном тексте произведения, а также позволяет интерпретировать романные мотивы и образы в установленном тематическом контексте. Графи- ческие символы в рабочих тетрадях писателя, представляя собой смысловую целостность, являются семантическим «ключом» к пониманию поэтики произведения.
Рассмотрим следующие примеры. В рабочих тетрадях писателя встречается рисунок, который можно определить как изображение профиля, но точнее – носа (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
Подобный знак появляется возле следующих записей (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 11; при цитировании рукописи в квадратных скобках приводится вычеркнутый Достоевским текст, в наклонных – вписанный; цитируем с сокращениями):
«Въ 4 й главѣ, послѣ Ламберта, возвращаясь къ Макару:
У нихъ интрига, интрига! бѣжать» (73 об.).
«/ Въ Final'ѣ / Но Ламбертъ узналъ драго-цѣнную для него вещь; онъ узналъ, чего стоитъ документъ, увидавъ и сообразивъ по испугу Князя – испугу, котораго онъ и не предполагалъ въ такой силѣ. Стало быть, догадался, что за до-кументъ въ самомъ дѣлѣ много дадутъ заинтересованные люди» (74 об.).
«И во 2 мъ свиданiи: Но у васъ есть документъ.
Настасья Егоровна: А вы не выбѣжите-съ? – /Анна Андреевна надѣется, что /С./ Князь по-шлетъ за Княземъ Платономъ и еще за кѣмъ-ни-будь и покажетъ имъ [пись] документъ, чтобъ доказать, что онъ не сумасшедшiй/.
Наканунѣ Ламбертъ во время бѣгства Ст. Князя узналъ отъ подростка, что тотъ сговорился отдать документъ ей , завтра , черезъ Татьяну, въ квартирѣ Татьяны» (83 об.).
« Final . И развѣ могъ я вынесть, что Верси-ловъ тутъ, съ нимъ, съ Ламбертомъ, въ шантажѣ, разбойники! Мой идеалъ растоптанъ.
Въ послѣдней главѣ: письмо къ ней про до-кументъ надо отъ Татьяны.
– Подростокъ уговорился съ Татьяной нака-нунѣ, еще въ день Анны Андреевны, чтобъ Татьяна написала ей , что Подрост. хочетъ ей передать документъ.
– Та написала.
Ночь на съѣзжей, но давно нѣтъ документа.
– Вышелъ, къ Татьянѣ. Хвать въ карманъ – нѣтъ документа!
– У Ламберта!
И вмѣсто семейства родового (Ростовы) семейство возникающее, родъ эфемерный новый, ищущiй благообразiя и своего уровня и даже (новыхъ) формъ» (84).
«/Здѣсь – Final./ Не Татьяна ли пишетъ письмо о документѣ и свиданiе у [ней] /Татьяны/ на квартирѣ» (85).
« – Послѣ взрыва съ Бьорингомъ, произо-шелъ реактивъ: Я почувствовалъ, что это последнiй актъ безумiя и что я, какъ и ты, жажду благообразiя» (85 об.).
«Она. Зачѣмъ же вы не убьете меня сейчасъ.
ОНЪ. Сейчасъ не могу.
Она . А, да, честное слово.
– Нѣтъ, не это, а я еще буду думать, сегодня ночью, объ васъ.
– Она. Мучить себя, какъ тогда?
– Она ЕМУ: Да, я васъ любила; но не достаточно. Я васъ очень скоро [остав] разлюбила, увидавъ, что тутъ… не то, что мнѣ надо .
– Что вамъ надо? Снизойдите до моего ничтожества. Скажите, что вамъ надо.
(Она выставляетъ идеалъ простого и яснаго человѣка).
( Я люблю веселыхъ людей ).
Она ЕМУ: Я васъ не стою. Я деревяшка.
– Ну, я вамъ скажу всю правду: въ васъ есть что-то смѣшное» (86).
« – Разъясненiе Подросткомъ отъ себя ЕГО характера передъ окончательной сценой пожара , т. е. Фатума любви. Т. е. какъ ОНЪ надѣял-ся, убѣдившись въ ея великосвѣтской мерзости (съ Ламбертомъ), разлюбить ее и вылѣчиться. NB. “ Не разлюбивъ же, разумѣется, съ ума со-шелъ ”, – замѣчаетъ отъ себя Подростокъ.
/ Она / Я пожалуй выйду, я очень боюсь.
ОНЪ. Я воображаю васъ и только и дѣлаю, что съ вами разговариваю. Вы все смѣетесь (въ этихъ ночныхъ разговорахъ). Двойникъ. Сума-сшествiе» (86 об.).
Сравнение записей, отмеченных одним и тем же знаком, позволяет уточнить содержание художественного замысла, выделить разные аспекты интересующей писателя темы, увидеть тему в развитии. В данном случае внимание автора сосредоточено на фабульном элементе произведения – «интриге», вокруг которой разворачиваются события романа. Как известно, центром «интриги» является «документ» – письмо Катерины Николаевны Ахмаковой к Андроникову, где она неосторожно высказывается о своем отце, старом князе (обнаружившем склонность к бессмысленным тратам), желая объявить его недееспособным («в опеке») и тем самым пытаясь спасти состояние. В ситуации ожидаемого Ахмаковой будущего наследства это «чрезвычайно компрометирующее письмо» становится точкой отсчета в формировании сложной коллизии с участием, прежде всего, Подростка, Версилова и Ламберта.
Чтобы оценить содержание и развитие темы, заявленной в данном контексте, необходимо определить семантику условного обозначения, при помощи которого Достоевский объединил приведенные записи. Само изображение носа вызывает литературные ассоциации с одноименной повестью Гоголя. Значение гоголевской традиции для Достоевского и ее переосмысление в творчестве писателя несомненны (см.: [9], [15], [17], [18], [27], [28], [33]). Отметим то, что имеет отношение к интересующему нас вопросу. По наблюдению А. Л. Бема, для Достоевского гоголевская «фантастическая история исчезновения носа вырастала в трагедию личности ее героя. Достоевский своеобразным чутьем художника трагического, а не комического подметил в “Носе” элементы подлинной человеческой трагедии. Смысл этой трагедии был в раздвоении личности, в двойничестве» ([8; 52–53], см. также: [32; 229]). Как замечает В. Н. Захаров, «у Гоголя исчезновение и самозваное появление носа в чине статского советника является сюжетной реализацией языковой метафоры: майор Ковалев на самом деле “заносился”, “задирал нос”, поэтому и его нос, став “сам по себе”, объявляется в чине тремя рангами выше и обставляет общение с майором Ковалевым неодолимыми для героя условностями чиновного общения… Объявившись “сам по себе”, нос ведет независимое от майора Ковалева существование. Точно так же и в “Двойнике”: Голядкин раздвоен, но его двой- ник существует “сам по себе”, как реальное лицо. Как и нос у Гоголя, двойник у Достоевского становится поэтической условностью сюжета повести» [13; 77]. По мнению В. Н. Захарова, нос в повести Гоголя – это фикция, указывающая на потерю героем идентичности; фантастический сюжет «Двойника» отражает мысль о том, что «каждый человек несет в себе образ Божий. Нет одинаковых людей, каждый неповторим. Невозможна замена одного другим, подмена оригинала копией» [14; 330]. В черновых записях к «Подростку» поэтической условностью, своего рода фикцией, становится «документ»: на нем основана фиктивная «интрига», которая важна не сама по себе, а как способ раскрытия романных характеров и развития сюжетной коллизии. Это функциональное сходство определяет семантику изображения носа в рукописном тексте Достоевского.
Отмечая, что данный знак осмысливается писателем «в манере знаменитой гоголевской повести как нечто самостоятельное, как отдельный портрет», К. А. Баршт делает вывод о том, что за этим знаком «скрывается “ротшильдов-ская идея”, или, точнее, весь комплекс зараженных эгоизмом идей, которые в процессе развития повествования “Подростка” (повторяющего в этом смысле идею “Жития великого грешника”) преодолеваются главным героем как нечто “бесовское”. Писатель графически осмысляет этот знак как символ черта, дополняя “нос” не менее характерным контуром головы, губ, глаз, подбородка, и, самое главное, рогов» [6; 173– 174]. Следует внести несколько уточнений. Семантика и идеография знака становятся более ясными только при установлении всех записей, возле которых есть одно и то же обозначение, и их тематическом сравнении (в данной работе также приводится неполный контекст материала, в силу ограниченного объема статьи; по меньшей мере 19 записей, отмеченных изображением носа, содержатся не в рабочих тетрадях, а на отдельных листах с набросками к роману). Названный пример «превращения» знака «нос» в портрет не прослеживается в пределах одного вида рукописей: черт изображен не в набросках из записных тетрадей, а в записях на отдельных листах, которые датируются 1875 годом ([22; 105]; см. также: [6; 312], шифр рукописи – РГБ. Ф. 93. I. 1. 8/14. Л. 1). Изображение черта на указанном листе может быть и более поздним, причем в данном случае это именно рисунок, а не знак. Следовательно, принципиально важно разграничивать рисунки и знаки в рукописях Достоевского. Рисунки динамичны, они могут видоизменяться: даже если автор пытается воспроизвести один и тот же образ, все равно каждый рисунок, особенно портретный, имеет черты индивидуальности. Условные знаки, в отличие от рисунков, статичны – в таком случае для автора как раз имеет значение повторяемость графических характеристик. Это различие между рисун- ками и знаками объясняется просто: данные виды графики, будучи связанными с художественным замыслом и проблематикой текста, выполняют разные задачи. Знаки, по сравнению с рисунками, более функциональны: их основное предназначение – тематически соединить записи согласно авторской идее. Рисунки, по сравнению со знаками, более иллюстративны, нередко они становятся графическим аналогом словесного образа (например, портреты создаваемых автором персонажей, появляющиеся в черновых записях к романам). Наконец, если знаки обладают двойственной природой: их внешнее оформление не всегда отражает их внутренний смысл, потому что может быть не связано с ним напрямую, то рисунки (прежде всего, портретные) всегда образны и более ясно (именно с точки зрения семантики) вписываются в текстовое пространство.
Об идеографии указанного условного знака необходимо сказать следующее. В приведенных черновых записях упоминается «двойник» – эта тема в романе «Подросток» связана с образом Версилова и сценой, в которой герой разбивает икону. Перед тем как сделать это, Версилов говорит о «двойнике»: «Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите» [2; Т. 13; 408–409]. По замечанию В. Н. Захарова, «“двойник” Версилова становится основной движущей силой развития сюжета в завершении художественного целого романа» [12; 65–66]. При этом писатель, как и в повести «Двойник», полемичен по отношению «к “медицинской точке зрения” на “двойника” в заключительных главах “Подростка”, где сознание Версилова “расщеплено” фатумом – его “любовью-ненавистью” к Катерине Николаевне» [12; 69]. В. Лепахин указал, что «расколотый образ – это также символ “расколотого” сознания Версилова, его двоящейся в своих стремлениях души» [19; 253]. По мысли В. А. Викторовича, в романе «Подросток» «раздвоенность нравственной личности усилена неспособностью колеблющегося человека уверовать в доброе, идеальное начало в ближнем… Раздвоение тогда и торжествует, когда иссякает эта вера в образ Божий в человеке» [10; 21].
В интересующих нас черновых записях сквозь намеченную фабульную интригу, переданную глагольными конструкциями «событийной» семантики («У них интрига, интрига! бежать», «Ламберт узнал…», «Подросток уговорился с Татьяной…»), проступает тема утраты идеала, и выражена она в личностной форме повествования от «я» (в речи Подростка) и в диалогах (Версилова и Подростка, Версилова и Ахмаковой). Реплики Подростка и диалоги героев содержат мотив трагического раздвоения души. С одной стороны, в рукописи есть слова Версилова «я, как и ты, жажду благообразия» и заявлен «идеал простого и ясного человека», о котором говорит Ахмакова. С другой стороны, это горестное признание Подростка «Мой идеал растоптан», прозвучавшее после того, как юноша узнал о сговоре Версилова с Ламбертом. Наконец, это и «разъяснение Подростком от себя» характера Версилова, его «Фатума любви» (в последнем случае значимо сравнение любви с болезнью, роковым наваждением как указание на ослепленность Версилова страстью, на иллюзорность, неистинность его чувств). Думается, что основой романной коллизии является именно мотив утраты «веры в образ Божий в человеке».
Подчеркнем, что черновые записи, передавая сюжетно-фабульную основу художественного замысла, отражают еще один аспект темы: условное обозначение Достоевского появляется возле строк о семействе Ростовых. Тема семьи имеет значение как для романов Достоевского, так и для «Дневника писателя». Замечено, что «семьей, браком у Толстого и Достоевского испытываются характеры героев <…> А так как семья является средством проверки нравственного здоровья всего общества, то возникновение “случайного семейства” в романе “Подросток”, “неправильной семьи” или “несчастливой семьи” в романе “Анна Каренина” становится симптоматическим явлением. <…> “Несчастливая семья” – это модель распадающегося общества» [25; 141–142]. В рукописи «Дневника писателя» за 1876 год, размышляя о случае из газетной хроники, Достоевский упоминает о Ростовых, сравнивая этот образ «благолепного семейства» и реальное описание распавшейся семьи [30; 111–112]. В романе «Подросток», отталкиваясь от реальности, автор говорит о «случайном семействе», определение которого в черновой записи противоречиво: «…се-мейство возникающее, род эфемерный новый, ищущий благообразия…» И в этом случае отметим несовпадение идеала и действительности: сказано о стремлении к «благообразию», но – одновременно подчеркивается «эфемерность» самого семейственного начала в условиях нарушенных духовных связей и утраты идеи, роднящей и объединяющей людей. История «случайного семейства» – это и психологический этюд, и религиозно-философское размышление о трагических противоречиях души человеческой, и отклик на духовное разъединение общества (первоначальное название романа – «Беспорядок»), на «обособление» человека в эпоху нигилизма и безверия.
Вера как выражение идеала является мировоззренческим центром творчества Достоевского, духовным вектором развития художественного мира автора. Среди черновых записей к роману «Подросток» отметим два наброска, возле которых начертан знак православного креста (рис. 4, 5). В тетрадях Достоевского можно встретить разные изображения креста – это шес- ти- или восьмиконечный крест, который в христианской традиции «имеет три горизонтальные перекладины: верхняя – для надписи, нижняя – ближе к основанию креста служит для suppeda-neum – опоры креста» [34; 259], см. также: [5].

Рис. 4 Рис. 5
« – У васъ не логика, у васъ какое-то чувство, говоритъ подростокъ Князю. Вы не можете опровергнуть идею Версилова и говорите лишь: Зачѣмъ ОНЪ самъ не таковъ? Вотъ ваша логика, но это дичь, а не логика. ОНЪ можетъ быть даже самъ и дуренъ, но говорить ОНЪ можетъ высшую правду» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 11. Л. 48).
«ОНЪ говоритъ Подростку въ Final'ѣ, въ тоск^, что идея его объ уединенiи ниже по гордости полному прощенiю, не мщенiю. Къ тому же въ Ротшильдѣ подленькая мысль о самообезпеченiи» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 13. Л. 35; в этом случае следует разграничивать линии начертания, так как знак креста оказывается в одном пространстве с обозначением абзаца).
Первая запись частично воспроизводится в печатном тексте, в диалоге Подростка с князем Сергеем Сокольским о Версилове: «И наконец, вы говорите: зачем он сам не таков, каким быть учит, – вот ваша логика! И во-первых, это – не логика, позвольте мне это вам доложить, потому что если б он был и не таков, то все-таки мог бы проповедовать истину…» [2; Т. 13; 180]. Данные слова также становятся указанием на противоречивость характера Версилова. Но помимо этого здесь звучит и авторская идея «высшей правды», или Истины, которая в рукописи получает графическое «определение». Знак православного креста символичен: в традиции древнерусской иконописи «образы Распятия – воплощение сути христианского вероучения, символ самой христианской веры» [4; 98–99]. Религиозный смысл записи передан и лексически. Говоря о значениях концепта истины, Н. Д. Арутюнова отметила следующее соотношение «истины» и «правды»: «О Божественном мире и его аналогах говорят в терминах истины . Это же слово используется в эпистемических контекстах. Ему отдается предпочтение (часто из соображений стиля) и тогда, когда речь идет о человечестве, его идеалах и конечных целях, между тем как проекция Божественного мира на жизнь и речевую деятельность людей обозначается словом правда . Правда – это отраженная Истина, истина в зеркале жизни, преломившаяся в бесчисленных его гранях. <…> Будучи категорией жизни, правда распределена между множеством ее сфер. <…> Истина имеет одного Владельца (“Наставь меня, Господи, на путь Твой и буду ходить в истине Твоей”), правда – многих…» [1; 26]. В текстах
Достоевского присутствует названное смысловое соотношение «истины-правды» и «Божественной Истины» [31].
При интерпретации рукописного материала важно учитывать более широкий контекст, не раскрытый, но подразумеваемый в черновой записи. Имеются в виду слова Версилова о дворянстве как символе «высшей идеи», под которой понимается «идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому беспрерывно». Дворянство, в определении Версилова, – это не столько сословие, сколько «собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты» [2; Т. 13; 178], см. также [11]. Мы видим, что знак Распятия в контексте общей проблематики романа «Подросток» соотносится с темой дворянства, актуальной для творчества Достоевского в целом. Образ «лучших людей» указывает на несоциальное, духовное наполнение этой темы, а знак православного креста как символ веры становится ценностным ориентиром автора и выражением христианской Истины. Во втором наброске Достоевского возникает антитеза высокого и низкого, разъясняющая авторский взгляд на идею Подростка «стать Ротшильдом», которая в высказывании Версилова утрачивает статус «идеи», превращаясь в «подленькую мысль о самообеспечении». В этом случае знак православного креста также отражает христианскую систему ценностей, усиливая нравственное противопоставление добродетели и греха (в наброске Достоевского - прощения и гордости ).
Эти наблюдения говорят о том, что условные знаки в рукописном тексте Достоевского, являясь символическим определением темы и графически оформляя семантическое пространство художественного замысла, выполняют оценочную функцию. Обратимся еще к одному примеру: в записях к роману «Подросток» встречается знак солнца (рис. 6, 7, 8). Отметим, что изображение солнца имеется и в записной тетради с черновыми набросками к «Дневнику писателя» 1876–1877 годов – там это круг, от которого «разбегаются» в разные стороны «лучики», в круге точками обозначены «черты лица». Здесь это полукруг, как правило, с тремя нисходящими лучами:

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8
Если говорить о «Дневнике писателя», то знак солнца объединяет записи литературного характера с наброском о войне и герцеговинцах. Анализ материала приводит к выводу о том, что применительно к литературной теме знак солнца связан с проблемой положительного идеала, а в записях о войне солнце есть символ русских
«лучших людей», тех, кто «ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнию» [2; Т. 23; 161]. В контексте «военной» тематики «Дневника» – это русские офицеры и солдаты, добровольно вставшие на защиту балканских славян, уничтожаемых турками. Кроме того, солнце символизирует «Святую Книгу» – Библию [2; Т. 22; 97]. Таким образом, знак солнца в записной тетради сопутствует размышлениям Достоевского о христианском идеале и становится своеобразным отражением «символа веры» писателя (подробнее см.: [29]).
Похожий условный знак, который появляется возле черновых записей к роману «Подросток», наделяется иным смыслом – не случайно несколько меняется и его начертание. Приведем наброски, отмеченные знаком солнца и образующие определенный контекст (цитируем с сокращениями):
« – Не такъ ли согласить письмо: О письмѣ этомъ во всю 1 ю часть и не говорить, а Крафтъ доставляетъ только документъ по тяжбѣ и кое-какую дрянь, но говоритъ, что существуетъ такое письмо ея, которое она ищетъ и ѣздила затѣмъ въ Москву.
– Ѣздила? впивается подростокъ и т. д.
– Сестрѣ Лизѣ, въ 1 й вечеръ, объ тебѣ три раза поминали сегодня, /С/ Князь, Княгиня, Ва-синъ, [и Князь].
Подростокъ Крафту передъ уходомъ: о гуманности, тонко, я бы желалъ одного кого-нибудь любить и довольно.
– Вы и любите.
– [ЕГО] Я не поднялъ. Крафтъ недосказалъ, вѣжливость. /Съ Крафтомъ о дворянствѣ. Ст. книжку/» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 11. Л. 105; далее номер листа указывается при цитате).
«Я не стою за крѣпостное право, но прежде былъ хоть скверный, но порядокъ , теперь никакого ( вариант : а теперь совсѣмъ никакого. – Н. Т .). Волостные суды д^лаютъ что угодно, [в] пьяное сумасшествiе. Хуже того, что есть, никогда не было. Но это бы рѣшительно ничего, если бъ было поправимо, хоть черезъ 100 лѣтъ. Но это непоправимо. Русскiе второстепенный ма-терьалъ. Я не могу жить безъ грусти.
Крафт: Я бы желалъ быть срединой, наживать.
О дворянствѣ призванномъ» (111 об.).
« – /Крафтъ./ Юридически этотъ документъ (письмо) много не стоитъ.
А шансъ есть.
Я этимъ дѣломъ не занимался – адвокатъ противной стороны, конечно, долженъ знать, чтò бы онъ могъ сдѣлать съ такимъ документомъ, много или мало, или совсѣмъ ничего.
– Какъ же мнѣ поступить?
Это какъ угодно» (115).
«Простился съ Крафтомъ грустно. То, что отъ васъ узналъ. Я еще не вѣрую, но – чувствую, что порву. Надо начинать новую жизнь. Къ Васину я не пойду. [Блаженъ, у кого]
– А вы надѣетесь жить. Блаженъ тотъ, у кого есть идея.
Если бъ вы знали, что вы сказали, Крафтъ (у меня своя идея).
/
Драгоцѣнность вдругъ ложась спать: почему я меньше люблю Васина, чѣмъ давеча? Потому что слишкомъ предъ нимъ давеча принизился. “Я мальчишка, я больше ничего”» (116).
« – Следствiе нигилизма будетъ идеализмъ, говоритъ Подростокъ.
– Неправда, – возражаетъ ОНЪ, – напротивъ самый спасительный и отрезвляющiй позити-визмъ, потому что нигилизмъ[-то] самъ [и] есть /можетъ быть чуть не/ послѣдняя степень идеализма » (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 13. Л. 57; далее номер листа указывается при цитате).
« – Одноидейность.
– Нажрался нигилятины, натрескался ниги-лятины.
– Какiе у нихъ ( вариант : они. – Н. Т .) отрицатели. У нихъ даже отрицанiе религiи возведено въ религiю. [Идеалисты] Это – вѣчно молящiеся. Нигилятина. Это Ламберъ» (58).
« – Желѣзныя дороги, можетъ быть, болѣе повредили Россiи, чѣмъ пользы принесли. А впрочемъ, у насъ все было такъ, все съ Петра Великаго начиная, все залпомъ и неестественно.
– Нынѣшнее время – это царство ( вариант : время. – Н. Т .) Золотой Средины, полупросвѣ-щенiя, невѣжества, лѣни, неспособности къ дѣлу, потребности всего готоваго и проч.» (61).
«/Несчастья Богъ посылаетъ . Они тоже полезны да еще какъ. Безъ несчастья и счастья бы не было./
– Кабы не было несчастiй, и жить бы не стоило.
– NB.) Разсказъ объ обращенiи Св. Павла, дорогою, послѣ убiйства Стефана. – О искуше-нiи въ пустынѣ. О томъ, что такое, въ сущности, аскетизмъ монастырей. Свобода Христова и въ комунизмѣ, равенство Христово и 93 <-го> года. Всѣ эти разсказы приводятъ Подростка въ восхищенiе и недоумѣнiе.
– “Въ это царствованiе, отъ реформъ пропала общая идея и всякая общая связь. Прежде хоть какая-нибудь да была, теперь никакой. /Всѣ врознь./ Былъ хоть гаденькой порядокъ, но былъ порядокъ. Теперь полный безпорядокъ во всемъ”.
Это одна изъ циническихъ ЕГО фразъ» (65).
В этих записях также присутствует элемент «интриги», в данном случае связанной уже с другим «документом» – письмом Столбеева, имеющим отношение к тяжбе о наследстве, которую Версилов ведет с князьями Сокольскими. Важно то, что «документ» соединяет двух героев – Подростка и Крафта, от которого молодой человек получает указанное письмо. Имя Крафта звучит почти в каждой из записей как авторское указание на проблему, ставшую объектом художественного исследования в романе «Подрос- ток». И в черновом, и в печатном тексте с Крафтом связывается мысль о том, что «русские второстепенный материал». К этой теме примыкают романные рассуждения Крафта о «беспорядке» (как состоянии общества), почти дословно повторяющие вариант рукописи: « – Нынешнее время, – начал он сам, помолчав минуты две и всё смотря куда-то в воздух, – нынешнее время – это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил себе идею» [2; Т. 13; 54].
Показательно, что такое определение эпохи принадлежит самоубийце, представителю поколения, которое в черновиках объясняется посредством понятий «нигилизм», «отрицание», «нигиля-тина». В окончательном тексте оценка нигилизма не столь открыта, как в набросках, но передается через восприятие Подростка, произнесшего речь у Дергачева: «…и особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, – никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете…»; «У вас будет казарма, общие квартиры, stricte nécessaire, атеизм и общие жены без детей – вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за всё за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность!» [2; Т. 13; 49–50]. Здесь уже очевидно соотнесение нигилизма, атеизма и коммунизма – явлений, противополагаемых автором христианскому идеалу, «свободе Христовой». Эта мысль неоднократно звучала и в романах, и в «Дневнике писателя» Достоевского, как и мотив «дьяволова искушения», появляющийся в черновом тексте «Подростка» [35; 394–395, 415]. В отмеченных набросках заявлена, кроме того, тема «дворянства призванного», в окончательном тексте наиболее полно представленная в суждениях Версилова. Учитывая сказанное, можно заключить, что в черновых материалах происходит проблематизация идей, принадлежащих героям, но уже на этой стадии творческого процесса проговаривается «скрепляющая мысль» автора. Анализ рукописного материала подтверждает высказанное В. Н. Захаровым суждение о том, что «“жизнь идей” своих героев Достоевский всегда соотносил с идеей произведения (“предмет” с принципом изображения действительности)» [13; 156].
В установленном тематическом контексте знак солнца, изображенный в рукописи, обретает особый художественный смысл. Как отмечает И. Лунде, образ солнца присутствует в монологе Версилова о «золотом веке», в рассказе Макара Долгорукого о купце Скотобойникове, в воспоминаниях Аркадия о матери, в эпизоде первой встречи Подростка с Макаром Ивановичем [20; 419]. Добавим, что образ солнца появляется в размышлениях Подростка о Крафте. Позднее, услышав о самоубийстве Крафта, Аркадий спрашивает: « – Крафт? – пробормотал я, обращаясь к Ахмаковой, – застрелился? Вчера? На закате солнца?» [2; Т. 13; 128].
Обратимся к двум наиболее важным для анализа сценам. В начале третьей части романа, где речь идет о девятидневном беспамятстве Подростка после истории с «рулеткой», слышен отголосок рассуждений Ипполита Терентьева о «темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено» [2; Т. 8; 339], – имеется в виду важнейшая для романа «Идиот» (в частности) тема «мертвого Христа» как воплощения неумолимых, всепоглощающих законов смертной природы (см.: [21], [23], [26], [36]). В «Подростке» о «законах природы» говорит Аркадий: «День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два, разозлило меня до злобы» [2; Т. 13; 283]. Момент символичен тем, что именно в эту минуту «злобы» на «косность природы» Подросток слышит слова Макара Долгорукого: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» [2; Т. 13; 283–284] (здесь возможна и тематическая параллель с повестью «Кроткая», в которой особое значение имеет образ мертвого солнца («мертвой косности») как символическое определение отчаявшейся одинокой души, оставшейся без веры и любви) [7; 123]. По мысли Т. А. Касаткиной, «прежде думая о солнце, как о “вращающемся шаре”, который в свое время остынет, и все остынет с ним, и ледяные камни будут летать в пространстве, Аркадий – сознательно или бессознательно – в заходящем солнце видел прообраз этой смерти, символ окончательной гибели. После разговора с Макаром, который весь посвящен смерти во Христе, и надежде новой жизни, и тому, что “и по смерти любовь”, заходящее солнце становится в сердце Аркадия символом Христа – Солнца правды, умирающего, чтобы воскреснуть, гаснущего затем, чтоб из гроба воссиял свет и просветил всю темную мглу, “преисподняя земли”, чтобы во всем, во всякой вещи, торжествовало “благообразие”» [16; 61].
«Закат солнца» – это и двойственный мотив сна Версилова о «золотом веке», с одной стороны, связанный с образом «счастливого и невинного» человечества; с другой стороны, метафорически передающий взгляд на историю Европы: «И вот, друг мой, и вот – это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества! Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола» [2; Т. 13; 375]. Завершая рассказ, Версилов упоминает стихотворение Г. Гейне «Христос на Балтийском море» (подразумевается его первая часть – «Frieden», или «Мир»). Как сообщает Н. Перлина, «первоначально текст стихотворения (опубликованного в 1826 году) состоял из двух частей. В то время как первая часть выражала благочестивую любовь Гейне к святому образу Христа, вторая была пронизана сардоническими замечаниями поэта касательно практических выгод быть христианином в нынешние времена. Эта часть стихотворения “вызвала большой скандал”, и в последующих публикациях Гейне ее опускал. Между тем в России в 1872 г. журнал “Гражданин” неожиданно опубликовал “Frieden” как двухчастную композицию. Когда Достоевский познакомился с этим произведением Гейне, он увидел в нем выражение непримиримых конфликтов, которые мучили сердца и умы европейских деистов и русских gentil-homme(s). <…> В контексте всего романа типологическая парадигма лишь усиливает идейное значение его конкретной поэтической семантики: поскольку Версилов как бы отрубает второй фрагмент стихотворения Гейне, его восторги по поводу одной первой части предвещают – композиционно и архитектонически – загадочную сцену “разбивания иконы” и раскалывания ее на два куска…» [24; 131–132].
Таким образом, в результате анализа семантики и идеографии условных знаков Достоевского более очевидными становятся смысловые нити, связующие романные образы в единстве религиозно-философской проблематики произведения. Изображение носа указывает на художественную функцию этого образа в повести Гоголя «Нос» и определяет значение и содержание фабульной «интриги» в романе «Подросток». Знак солнца в «Подростке» обладает более сложной семантикопоэтической структурой, чем в «Дневнике писателя»: не случайно мотив «заката солнца» возникает не только в христианском контексте, но и в рассказе о самоубийстве Крафта. В символическом изображении солнца историософская тема, проявившаяся в авторской оценке нигилизма и безверия как примет духовного «обособления» людей («все врознь»), соединяется с идеалом веры, отражением которого в рукописном тексте Достоевского становится знак православного креста.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 05-04-04102а.
Список литературы Семантика и идеография условных знаков в черновых рукописях романа Ф. М. Достоевского «Подросток»
- Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации//Логический анализ языка: Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 21-30.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник/Сост. Г.К. Щенников (науч. ред.), А.А. Алексеев. Челябинск: Металл, 1997. 271 с.
- Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение, 1993. 223 с.
- Барсов Н.И. Крест//Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т./С.С. Аверинцев, А.Н. Мешков, Ю.Н. Попов. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 1. С. 832-835.
- Баршт К. Рисунки в рукописях Достоевского. СПб.: Формика, 1996. 319 с.
- Бекедин П.В. Повесть «Кроткая» (К истолкованию образа мертвого солнца)//Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1987. Т. 7. С. 102-124.
- Бем А.Л. Достоевский -гениальный читатель//Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 35-57.
- Викторович В.А. Гоголь в творческом сознании Достоевского//Достоевский: Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1997. Т. 14. С. 216-233.
- Викторович В.А. Роман познания и веры//Роман Ф.М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения. Коломна: КГПИ, 2003. С. 17-27.
- Галаган Г.Я. Проблема «лучших людей» в наследии Ф.М. Достоевского (1873-1876)//Достоевский: Материалы и исследования. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. Т. 12. С. 99-107.
- Захаров В.Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1978. 110 с.
- Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 209 с.
- Захаров В.Н. Является ли христианский всего лишь конфессиональным признаком? Полемические возражения К.А. Степаняну//Достоевский и современность: Материалы XXII Международных Старорусских чтений 2007 года. Великий Новгород, 2008. С. 321-332.
- Захарова Т.В. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя и «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского («кризис авторства» и авторский статус)//Достоевский и современность: Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях 1991 г.». Новгород, 1992. Ч. 1. С. 37-47.
- Касаткина Т.А. Два образа солнца в романе «Подросток»//Роман Ф.М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения. Коломна: КГПИ, 2003. С. 53-62.
- Киносита Т. Образ мечтателя: Гоголь, Достоевский, Щедрин//Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1988. Т. 8. С. 21-38.
- Кирпотин В.Я. У истоков Романа-трагедии. Достоевский -Пушкин -Гоголь//Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. М.: Советский писатель, 1971. С. 9-86.
- Лепахин В. Икона в творчестве Достоевского («Братья Карамазовы», «Кроткая», «Бесы», «Подросток», «Идиот»)//Достоевский: Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2000. Т. 15. С. 237-263.
- Лунде И. От идеи к идеалу -об одном символе в романе Достоевского «Подросток»//Евангельский текст в русской литературе XVI-XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 2. С. 416-423.
- Марченко Е.И. «Странная картина» Ганса Гольбейна Младшего в романе Ф. Достоевского «Идиот»//Стиль -образ -время: проблемы истории и теории искусства. М., 1991. С. 93-118.
- Описание рукописей Ф.М. Достоевского/Под ред. В.С. Нечаевой. М., 1957. 588 с.
- Пантелей И. «Мертвый Христос» у Ф.М. Достоевского и Ф. Сологуба//Новая Европа. 1996. № 9. С. 73-80.
- Перлина Н. Переосмысливая Юность//Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения. Коломна: КГПИ, 2003. С. 122-136.
- Порошенков Е.П. Тема «случайного семейства» в романах Л. Толстого «Анна Каренина» и Ф. Достоевского «Подросток»//Толстовский сборник. Тула: ТГПИ, 1973. Вып. 5. С. 140-149.
- Соломина Н.Н. Примечания//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 385-404, 427-469.
- Степанова Г.В. «Скверный анекдот» (Достоевский и Гоголь)//Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1987. Т. 7. С. 166-169.
- Степанян К. Гоголь и Достоевский: диалоги на границе художественности//Степанян К. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М.: Раритет, 2005. С. 55-70.
- Тарасова Н.А. Условные знаки Достоевского. (На материале записных тетрадей 1875-1876 и 1876-1877 гг.)//Достоевский и мировая культура/Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге; ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Комиссия по изучению творчества Достоевского. СПб.; М.: Серебряный век, 2004. № 20. С. 375-394.
- Тарасова Н.А. Текстологические аспекты исследования «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского (1876 г.)//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2005. № 4 (41). С. 109-114.
- Тарасова Н.А. Значение заглавной буквы в наборной рукописи рассказа «Сон смешного человека» («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 год)//Русская литература. 2007. № 1. С. 153-165.
- Топоров В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»)//Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» -«Культура», 1995. С. 193-258.
- Фридлендер Г.М. Достоевский и Гоголь//Достоевский: Материалы и исследования/Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Л.: Наука, 1987. Т. 7. С. 3-21.
- Энциклопедия символов, знаков, эмблем/Авт.-сост. В. Андреева и др. М.: Астрель -МИФ -АСТ, 2001. 576 с.
- Якубович И.Д. Примечания//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 17. С. 393-426.
- Meerson O. Ivolgin and Holbein: Non-Christ Risen Vs. Christ Non-Risen//Slavic and East European Journal. 1995. 39. 2. P. 200-213.