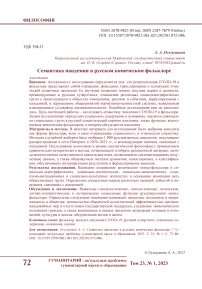Семантика пандемии в русском комическом фольклоре
Автор: Осьмушина Анастасия Андреевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность исследования определяется тем, что репрезентация COVID-19 в фольклоре представляет собой отражение, фиксацию, транслирование и иллокуцию этнической семантики пандемии. Ее изучение позволяет понять текущие нормы и ценности, превалирующие в русском суперэтносе, отношение различных социодемографических групп к происходящим в обществе изменениям, реалиям и событиям, коррелирующим с пандемией, и нарушениям общепринятой нормативно-ценностной системы, выявляемым изменившимся условиями жизнедеятельности. Подобные исследования еще не выполнялись. Цель настоящей работы - исследовать семантику пандемии COVID-19 в фольклоре. Задачи исследования: определить социальное содержание и основания, оценки и самооценки социальных групп в русской семантической картине пандемии, также функции, выполняемые комическим фольклором, в котором обсуждается пандемия. Материалы и методы. В качестве материала для исследования были выбраны анекдоты как формы фольклора, ясно и емко отражающие социальность и этническую семантику. Методом случайной выборки была отобрана 1 000 русскоязычных анекдотов, получивших распространение в сети Интернет в 2020-2021 гг., и комизирующие явления, связанные с пандемией. Исследование выполнено в рамках аналитической философии с применением сравнительно-исторического метода, позволившего отобрать релевантный материал, метода количественно-качественного анализа контента, позволившего систематизировать полученные данные, а также общенаучных методов сравнения, сопоставления, и классификации, обеспечивших интерпретацию результатов и формулирование выводов. Результаты исследования. Выявлено содержание комического ковид-фольклора в социально-демографических, социально-политических, социально-экономических, социально-миграционных и социально-культурных контекстах и основания комизации всех общественных групп. Определены социальные оценки различных явлений, событий и поведения, связанных с пандемией. Обсуждение и заключение. Выявлены гносеологические, онтологические, логические, логико-лингвистические и исторические социальные функции русскоязычного ковид-фольклора. Определены следующие основания комизации пандемии: пессимизм и напряженность в обществе, недовольство обывателей недостаточной эффективностью противопандемийных мер и отсутствием государственной поддержки, ухудшение экономического положения граждан, а также выявленные в период пандемии деградация человека и отношений, культуры и школы, абсурдизация жизни в целом.
Фольклор, анекдот, пандемия covid-19, русский суперэтнос, семантика, содержание, основания, оценки
Короткий адрес: https://sciup.org/147240159
IDR: 147240159 | УДК: 398.23 | DOI: 10.15507/2078-9823.061.023.202301.072-086
Текст научной статьи Семантика пандемии в русском комическом фольклоре
Пандемия COVID-19 повлекла за собой глубокие изменения в общественной жизни, затронувшие все социальные группы. Можно уверенно назвать пандемию точкой бифуркации общественного развития и сознания, спровоцировавшей перемены в бытии, мировосприятии и эмоциональных оценках этноса. Актуальность исследования определяется тем, что эти изменения остаются малоизученными. Как подтверждают труды фольклористов, филологов, философов и психологов, мировосприятие [19; 21; 26; 29] и нормативно-ценностная система этноса [7; 10] находят отражение в фольклоре. Ковид-фольклор представляет собой отражение, фиксацию, транслирование и иллокуцию этнической семантики пандемии. Тем не менее семантика пандемии в отечественном фольклоре прежде не рассматривалась, социально-философские основания ее не выявлялись, оставаясь неисследованной областью. Однако ее изучение позволяет понять текущие нормы и ценности русского суперэтноса, отношение различных социодемографических групп к происходящим в обществе изменениям, реалиям и событиям, коррелирующим с пандемией, и нарушениям общепринятой нормативно-ценностной системы, изменившимся условиями жизнедеятельности. Таким образом, цель настоящей работы – исследовать семантику пандемии COVID-19 в русском фольклоре. Цель конкретизируется в следующих задачах: определить социальное содержание и основания, оценки и самооценки социальных групп в русской семантической картине пандемии, а также функции, выполняемые комическим фольклором, в котором обсуждается пандемия.
Обзор литературы
Мгновенное отображение общественных изменений и социальных процессов, спровоцированных пандемией, в медиапространстве и интернет-фольклоре отмечалось многими учеными [3; 5; 13]. Однако, изучая дискурсивное содержание [13], лингвистические перемены и их функции в обществе [1; 15; 22; 29], морально-этические последствия [25] или семантику пандемии в СМИ [3], исследователи обошли вниманием фольклорную репрезентацию семантики пандемии как отражение коллективной рефлексии. Ряд ученых отмечали важность философского анализа текущих процессов и их возможных последствий [2; 4; 6; 12], однако системный анализ такого рода до сих пор не был выполнен. Понимание анекдотов как форм фольклора, емко и полно отражающих социальную и этническую семантику, и определившее выбор материала для исследования, базируется на трудах К. Дэвис [18], А. А. Осьмушиной [10], Е. А. Копыл-ковой [7] и М. А. Ухановой [14]. Предпосылки определения социальных функций анек- дотов, в которых обсуждается пандемия, заложили работы, посвященные изучению функций комического в целом [7; 9–11; 16; 18–20; 24; 31; 32]. Опубликованные исследования функций комического, связанного с пандемией [17; 27; 28; 30], несистемны и не охватывают всех функций, общественных групп и процессов, не говоря уже о том, что не затрагивают особенности репрезентации пандемии в фольклоре русского суперэтноса, что и определило направление настоящего исследования.
Методы исследования
Поскольку современный фольклор преимущественно представляет собой формы комического, широко представленные в сети Интернет и СМИ [14], в качестве материала для исследования были выбраны анекдоты как основная социальная форма комического [10]. Для осуществления целей и задач исследования методом случайной выборки была отобрана 1 000 русскоязычных анекдотов, получивших распространение в сети Интернет в 2020–2021 гг., и комизирующих явления, связанные с пандемией. Исследование выполнено в рамках аналитической философии с применением сравнительно-исторического метода, позволившего отобрать релевантный материал и выявить изменения его содержания; метода количественно-качественного анализа контента, позволившего выявить нормы, ценности, девиации и оценки, формирующие картину пандемии в фольклоре и, соответственно, коллективном сознании этноса; метода системного анализа, позволившего систематизировать полученные данные; а также общенаучных методов сравнения, сопоставления и классификации, обеспечивших интерпретацию результатов и формулирование выводов.
Результаты
Как показал анализ, содержание комического, обсуждающего пандемию, охватывает все социальные контексты: социально- политический, социально-экономический, социально-демографический, социальномиграционный и социально-культурный, включающий жизнедеятельность в сфере образования, искусства, религии и медицины. Социально-политический и социальнодемографический контексты наблюдаются в рассмотренном материале с наибольшей частотностью (40 % и 43 % случаев соответственно). Значительно реже комизиру-ются социально-экономический и социально-культурный контексты (9,0 % и 7,5 % анекдотов). Социально-миграционный контекст также оказался затронут пандемией, хотя и встречается редко (0,5 % случаев).
Все социальные группы, страты и слои отражаются в исследуемых анекдотах. В рамках русскоязычного комического можно выделить следующие коррелирующие социальные группы комического: богатые – бедные; поставщики, продавцы – покупатели; интеллигенция - рабочие и крестьяне; приезжие – коренные жители; учителя – ученики, преподаватели – студенты; женщины – мужчины; молодежь – пожилые; дети – взрослые; представители власти (президенты, монархи, депутаты, главы областей и городов, полицейские, прокуратура, всевозможные инспекции (чаще всего аудиторы, санитарная и пожарная инспекции)) – обыватели; начальство – подчиненные; военные – гражданские; представители науки и профессиональных групп как носители групповой (профессиональной) идентичности, мышления и диалекта – обыватели как носители общепринятой нормативно-ценностной системы; криминал, алкоголики, наркоманы как девиантные группы – обыватели как конформисты. Рассмотрим семантику пандемии в применении к каждому из социальных контекстов жизнедеятельности общественных групп, включая оценки и самооценки этих групп.
В рамках социально-политического контекста комизируются отдельные предста- вители власти, институты власти и правительство в целом на основании недоверия граждан к власти, неверия в возможности власти, которая прежде показывала себя неэффективной, отрицания поддержки и эффективных мер правительства. Осуждаются невнятные распоряжения властей – федеральных и местных, обличаются неадекватные, чрезмерные и невыполнимые требования. С одной стороны, осуждается слишком долгий карантин. С другой, мероприятия, проводимые в пандемию, и отмена ограничительных мер оцениваются как несвоевременные, принимаемые меры – как непоследовательные и даже вредные. Отмечаются непредсказуемость решений властей по аналогии с погодными явлениями и смирение граждан перед ними, нестабильность ситуации в целом. Вновь и вновь вводимые карантинные меры, появление новых штаммов и волн распространения вируса получают отрицательную оценку как отражение отсутствия положительной динамики, затянувшегося кризиса, дается неблагоприятный прогноз развития ситуации. Комизируются недостаточность и неадекватная направленность государственной помощи, поддержка других государств вместо собственных граждан, введение штрафов, которое оценивается как политика повышения доходов государства за счет граждан. Недоверие граждан к власти столь велико, что комический фольклор включает обвинения в политических и экономических махинациях, ужесточении режима/ утверждении авторитарного режима, проведении реформ под прикрытием ажиотажа вокруг пандемии, в том числе реформ, ущемляющих интересы пожилых как демографической группы. Тем не менее ко-мизируются, т. е. получают отрицательную оценку как нездравые, теории заговора, а также отмечается отсутствие протеста, несмотря на отрицательную оценку деятельности институтов власти. Анекдоты фик- сируют ложь властей: понижение уровня жизни вопреки официальной информации, несоответствие пропаганды действительности, махинации со статистикой и фальсификацию информации в интересах правительства, притом что проверяющие органы нарушают указания по невнимательности, лени, равнодушию или вследствие коррупции. В целом действия властей оцениваются как противоречащие здравому смыслу, представители власти комизируются как глупцы и/или коррупционеры, притом что президент бывает обманут собственными министрами и не знает ситуации в стране. Такие оценки создают основания для са-моиронии как оправдания обмана власти. Так, презрение индивидов к санитарным требованиям в некоторых обстоятельствах может оцениваться положительно как средство сохранения свободы, а обман власти и обход ограничений – как проявление находчивости и способ восстановления справедливости. Отмечается ограничение свобод граждан: принуждение к добровольной вакцинации и самоизоляции, введение контроля над передвижением во время пандемии и прогноз его сохранения после ее окончания, утрата свободы, а также редукция человека к вещи (присвоение QR-кода), к животному, в частности собаке (требование носить маску), к функции (выплачивание кредитов и штрафов), к операционной системе (необходимость постоянного обновления антивирусных компонентов). Осуждается бесправие граждан: решения по борьбе с инфекцией пугают сильнее самой инфекции, права непривитых нарушаются, официальные результаты всех мер не соответствуют ожидаемым. В целом фольклор фиксирует, что пандемия порождает общественную напряженность и панику.
В рамках социально-экономического контекста отмечаются рост безработицы и ухудшение финансового положении граждан как следствие пандемии и огра- ничительных мер. Осуждается отсутствие благотворительной поддержки со стороны олигархов / лиц, имеющих сверхдоходы, в результате чего сверхдоходы вызывают ненависть обывателей. Обличаются обогащение производителей, поставщиков и продавцов на средствах санитарной защиты и лечения, дефицит и подорожание этих средств. Отмечаются социальное расслоение и неравенство (богатство олигархов, нищета пенсионеров), которые создают разные возможности для лечения COVID-19, притом что доходы не спасают от заболевания. Отмечается нищета отечественных больниц. Не вызывает удивления рассказчика тотальное пьянство среди представителей рабочих профессий в провинции. Однако отмечается и положительная сторона общественных изменений: так, в ряде случаев ограничительные меры позволили выявить более эффективные и выгодные пути ведения бизнеса. Невозможность для некоторых категорий граждан работать и содержать себя провоцирует обман, который оценивается положительно как проявление смекалки и средство выжить. В целом дается неблагоприятный экономический прогноз.
В рамках социально-демографического контекста комизируются недостатки, пороки, глупость и нездравое поведение представителей всех социодемографических групп. Мужчины осуждают излишнее внимание женщин к собственной внешности и салонам красоты, посещение которых стало затруднительным или невозможным в период самоизоляции; наблюдается пресуппозиция, что без всевозможных процедур женщины окажутся безобразными, тогда как под медицинской маской лица не видно. Женщины обличают нежелание мужчин тратить деньги на ухаживания и подарки женщинам, жадность, которую стало легче скрывать благодаря запрету на посещение ресторанов, а также слабость и ипохондрию мужчин, их лень и нежелание посещать культурные мероприятия, но стремление к пьянству в кругу друзей. Отмечается, что ограничения лишили мужчин их любимых развлечений и вынудили проводить время дома с нелюбимой семьей. Отмечается неверность мужчин, притом что карантинные меры затруднили встречи с любовницами, и непостоянство женщин, тогда как карантинные меры выявили и усилили это непостоянство. Молодежь осуждает ригидность пожилых и непонимание ими сути QR-кода, а также снижение социальной активности пожилых (их жизнь в период самоизоляции не изменилась). Отмечаются неряшливость и невоспитанность взрослых, выявленные дистанционным обучением и работой, склонность детей обманывать взрослых, в частности учителей, нередко – с попустительства и с помощью родителей. Фольклор фиксирует ряд индивидуальных пороков, ставших явными на самоизоляции: пьянство от скуки и безнаказанности, обжорство и лень, снижение бдительности, как следствие – бесполезность санитарных мер, интернет-зависимость, ненависть к шумным соседям, раздражение на шумных детей; отмечается скука, приводящая к утрате связи с реальностью. Фольклор фиксирует проблемы в отношениях, выявленные в условиях карантина: отсутствие общения, нежности, любви, желания заботиться, помогать и дарить подарки; родители не хотят проводить много времени с детьми, индивиды не желают проводить много времени с семьей, родственниками и друзьями, тогда как нежелание общаться стало легче скрывать под предлогом карантина. Именно в период самоизоляции обнаружилась редукция человека гуманистического к человеку прагматическому (владельцы используют питомцев как оправдание для выхода из дома, но не для того, чтобы любить их и заботиться о них). В отношении же кошек отмечается самоирония: понимание того, что животное относится к хозяевам пренебрежительно, не мешает содержать его. Осуждаются противники карантина (в 2020 г.) и вакцинации (в 2021 г.), конфронтация ваксе-ров и антиваксеров в одной семье. С одной стороны, фольклор фиксирует сомнения в безопасности вакцины, недостаточность и противоречивость сведений о безопасности и эффективности разных вакцин, с другой – опасения состава вакцины оцениваются как глупость и ханжество. Нередко отмечается, что пандемия и ограничительные меры выявляют глупость и отсутствие здравого смысла, получающее выражение в следующем: паника и закупки продуктов; пьянство как средство дезинфекции и профилактики заболевания, следование диванным вирусологам и конспирологам, применение народных средств лечения и профилактики; неверная оценка ситуации, неадекватное выполнение, непонимание санитарных требований; формальное выполнение санитарных требований при их фактическом игнорировании или нарушении; получение QR-кода важнее фактической защиты. Но также осуждаются и излишняя защита как проявление паники, чрезмерное внимание защите в ущерб более важным вопросам, приоритет санитарных норм над социальными и/или над здравым смыслом, экстраполяция социальной дистанции на семейные и интимные отношения как глупость. Обман с целью обойти ограничения оценивается как находчивость и уверенность (мы справимся, найдем выход в любой ситуации), безалаберность и наплевательское отношение – как опыт преодоления тяжелых жизненных условий и ситуаций (мы выживали в тяжелых условиях раньше и теперь нам ничто не страшно). В целом фольклор фиксирует влияние ограничительных мер на все сферы жизнедеятельности, изменение стереотипов и оценок в повседневно-бытовой сфере (так, вынос мусора как возможность выйти из дома в период само- изоляции стал привилегией, и возможность выйти стала приносить радость). Также фиксируется быстро сформировавшаяся привычка к санитарным мерам, таким, например, как ношение маски.
В рамках социально-культурного контекста выявляются деградация культуры и искусства (отсутствия творчества и стремления к совершенству, подменяемые стремлением к обогащению), деградация школы (поборы в системе образования, абсурдизи-руемые в период дистанционного обучения, неспособность противостоять требованиям глупцов и следование абсурдным рекомендациям) и учителя (нежелание учить и вообще работать в системе школы, подменяемые желанием отбывать время и получать зарплату, ригидность учителя, автоматические реакции на изменяющуюся ситуацию), деградация родителя (нежелание и неспособность учить и воспитывать собственных детей, равно как и уважать и ценить труд учителя и воспитателя), деградация руководителей религиозных институтов как лицемеров, глупцов и/или стремящихся не к истине, а к богатству, деградация медицины (не приносящие результата санитарные требования, высокая смертность вопреки лечению, бессимптомная ложная диагностика, махинации со статистикой заболеваемости, отсутствие своевременной медицинской помощи, добровольно-принудительное перепрофилирование больниц и работа врачей не по специальности, невыносимая нагрузка на врачей и персонал больниц), деградация врача (стремление лечить и спасать людей подменяется равнодушием, нежеланием работать в системе здравоохранения, получая зарплату за формальное исполнение обязанностей), деградация армии (воровство и перепродажа амуниции как средств санитарной защиты). При этом комизируется нездравое соблюдение традиций в тех случаях, если они противоречат санитарным нормам. Вы- полнение религиозных обрядов в качестве лечения оценивается как глупость. Отмечается, что пандемия выявила бессилие человека перед природой, ошибочность мнимого величия человека. В целом отмечаются изменение общественной системы норм и ценностей, привычных стереотипов, общественных ожиданий от разных профессий и социальных институтов; формирование новых традиций. Комизируются ригидность и отсутствие критичности в следовании привычным обычаям и традициям, а также деградация ряда общественных культурных институтов, выявленная во время пандемии и сопутствующих ей социальных перемен. Отмечается редукция жизнедеятельности человека до выполнения неких функций по аналогии с компьютерной игрой.
В рамках социально-миграционного контекста отмечаются изменение оценочного отношения коренных жителей к ряду приезжих в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, из которой они прибыли, интенсификация ксенофобии, в частности в отношении китайцев и итальянцев.
Анализ форм комического позволил определить оценки явлений, вызванных или выявленных пандемией. Ранее были выделены юмор, ирония, сатира, сарказм, благг и самоирония, демонстрирующие следующие оценки: юмор – «положительная оценка, хорошо, смешно, желательно»; ирония – «отрицательная оценка, плохо, смешно, нежелательно»; сатира – «резко отрицательная, отвратительно, смешно, крайне нежелательно»; сарказм – «резко отрицательная, недопустимо, смешно, крайне нежелательно»; благг – «резко отрицательная, прискорбно, недопустимо». Близка к юмору самоирония, дающая положительную оценку комизируемому явлению/ин-дивиду/поведению, оценивающая его как «хорошо, смешно, желательно в некотором отношении» [10]. Как показал анализ пан- демийных анекдотов, в них превалирует резко отрицательная оценка текущих событий, явлений и поведения человека: в 34 % случаев отмечено использование сарказма, в 18 – иронии, в 14 – сатиры и в 4 % случаев встречается применение благга. Положительная оценка в форме юмора и самоиро-нии наблюдается в 21 % и 9 % случаев.
Так, положительно оценивается то, что самоизоляция позволила выявить ряд вредных явлений/поведения: обман (лень); мужская неверность; женская ветреность; отсутствие общения с близкими, которые раньше скрывала отдаленность от семьи; нелюбовь к неинтересной работе; мелкие недостатки участников дистанционного обучения/работы (гедонизм, неорганизованность, лень); отсутствие активной социальной жизни до карантина; ригидность и механистичность человека; неверная оценка вредного, полезного, рисков в жизни и их соотношения. Положительно оценивается препятствие карантина мужской неверности и развлечениям вне семьи, а также чрезмерной женской заботе о своей внешности.
Оценку «нежелательно» получают как панические закупки и чрезмерные меры защиты, так и теории заговора как проявления глупости; лень, слабость и жадность мужчин; лицемерие, нежелание родителей общаться с детьми и учить их; отсутствие любви, заботы и нежности в семье, игнорирование близких и разводы после карантина; уменьшение гуманизма; непонимание сути санитарных мер; неверие священников; нагрузка на систему здравоохранения, очереди в поликлиниках, невыносимые условия работы врачей, добровольно-принудительное перепрофилирование больниц, отсутствие эффективной диагностики; опасения вакцины как глупость и ханжество; снижение доходов граждан на карантине, ограничение свободы передвижения, длительность ограничений, лишение отпуска и невозможность долгосрочного пла- нирования; пьянство как средство лечения; экстраполяция социальной дистанции на интимные и семейные отношения, на названия, фильмы как глупость.
Оценку «отвратительно, крайне нежелательно» вызывают следующие социальные явления: крайнее неравенство, а именно сверхдоходы и чрезмерное богатство чиновников при скудном оснащении больниц, порождающие неравные возможности выжить у богатых и бедных; неосведомленность главы государства о реальной ситуации в стране; низкая эффективность и коррупция политиков, желающих не преодолеть пандемию, а обрести некую выгоду; нарушение санитарных мер официальными лицами; непоследовательность мер, направленных на снижение заболеваемости; несоответствие официальных и реальных результатов действий властей, вредоносное действие мер, принимаемых властями, на жизнедеятельность граждан, так что они оцениваются хуже пандемии. Крайне отрицательно оцениваются потеря доходов гражданами, нищета пенсионеров, дефицит и дороговизна средств защиты. Как крайне нежелательное оценивается то, что только пандемия смогла приостановить разрушительную для экологии активность человека. Как отвратительное оценивается деградация искусства и школы.
Оценку «недопустимо, крайне нежелательно» получают следующие социальные явления и процессы: непонятные распоряжения властей, чрезмерные или абсурдные требования; сомнительные распоряжения властей, порождающие обвинения в ужесточении режима, нарушении прав и свобод граждан, подозрения в использовании пандемии для политических махинаций; глупые решения местных властей, приносящие эпидемический вред; проведение массовых мероприятий, голосования и переписи населения в период пандемии; увеличение налогов и введение штрафов, в то время как граждане рассчитывали на получение государственной поддержки; утрата работы и доходов, безработица как следствие антиковидных мер; продажа поддельных документов и коррупция проверяющих институтов; махинации политиков или Министерства здравоохранения со статистикой и неспособность отечественных и мировых организаций здравоохранения повлиять на ситуацию; неправомерные принуждения к вакцинации, абсурдные стимулы к вакцинации, ущемление прав невакцинированных; игнорирование санитарных требований и всеобщее нарушение правил по взаимному молчаливому согласию; двойные стандарты в требованиях и ограничениях в отношении пожилых граждан; религиозные обряды как средство борьбы с пандемией и демонстрация богатства религиозных организаций; деградация учителя; ничтожество человека перед силой природы; редукция человека до функции банкомата, бессловесного животного, операционной системы – т. е. утрата значимости человека как существа мыслящего и чувствующего.
Резко отрицательно, как «прискорбно», «недопустимо», оценивается изменение норм, ценностей и стереотипов: множество людей на улицах вызывает страх; необходимость носить маску и не касаться ничего и никого стала привычкой; как следствие, прогнозируется разобщение людей и возникает опасение, что ухудшения и ограничения останутся навсегда (что опровергает утверждения В. С. Котовой о том, что индивиды научились общаться на расстоянии и с оптимизмом смотрят в будущее [8]).
Положительно, как «хорошо, смешно, желательно в некотором отношении», оцениваются незначительные недостатки, такие как обжорство и пьянство на карантине, суеверия, неприятные ограничения, лишающие удовольствий, обман властей с целью выйти из дома или попасть на работу, разное отношение к происходящему в обществе, дистанцирование от неприятных контактов под видом санитарных мер, использование карантина в своих интересах, стремление женщин наряжаться в любых условиях, снижение градуса напряжения в обществе, открытие и посещение тайных парикмахерских и фитнес-клубов. Положительно оценивается то, что ходить на работу стало радостью, а также то, что удаленная работа открыла новые более выгодные пути для бизнеса.
Обсуждение
Интерпретируя результаты анализа и работы предшественников, можно полагать, что комический фольклор, семантическое наполнение которого – пандемия COVID-19, отвечает следующим общественным запросам и выполняет следующие функции.
В качестве средства познания изменившейся реальности ковид-фольклор отражает тревогу, вызванную пандемией, и выявляет социальные конфликты: политические – между ожиданиями граждан и действиями властей; экономические – между изменившимися потребностями граждан и недостатком финансирования на их осуществление; демографические – между желаниями и возможностями близких людей, вынужденных проводить больше времени в тесном контакте (между родственниками в семье, детьми и родителями, мужьями и женами, соседями). Другое гносеологическое значение пандемийного фольклора – оценивание социальных явлений. Наблюдаются негативная оценка безработицы, ухудшения экономического положения, а также ряда антиковидных мер, например ограничения прав и свобод граждан, в частности свободы передвижения; уменьшение возможностей работать и зарабатывать; ограничение доступа к очному обучению, развлечениям, прогулкам; вынужденное длительное пребывание дома и появление новых обязанностей. Наконец, в плане гно- сеологии фольклор обличает несправедливость, например экономическую, в виде отсутствия поддержки при введении штрафов и санкций, а также несоответствие истине – так, осуждаются махинации властей и разобщенность граждан.
В отношении к бытию комический фольк-лор формализует пандемию как новую реальность, осуществляет общественный контроль над индивидами и социальными институтами, социализацию и нормирование, учитывая изменения нормативно-ценностной системы, укрепление общественной солидарности на основании ключевых гуманистических ценностей, снижает напряженность и предотвращает панику, позволяя вербализовать эмоции, и формирует локальное чувство принадлежности, идентификации с референтной группой на основании общих ценностей, перспектив и точек опоры.
В плане логики ковид-фольклор обличает ошибки логики и мышления, такие как неверное понимание санитарных мер индивидами, введение неадекватных требований властными институтами, неверную оценку ситуации и игнорирование санитарных предписаний, в том числе нарушение здравого смысла, когда приоритет отдается санитарным мерам над здравым поведением и гуманистическими ценностями, и выявляет глупость.
В логико-лингвистическом аспекте при декодировании текста пандемийных анекдотов выявляются не только семантические, но и смысловые аналогии, позволяющие манипулировать сознанием и оценками реципиента; для иллокутивного эффекта не только используются старые стереотипы, но и формируются новые.
В отношении к коллективной исторической памяти ковид-фольклор демонстрирует столкновение старых и новых верований и изменение повседневных норм, оценок и практик; фиксирует параллели с эпидемия- ми прошлого и нечестными или неверными действиями властей или граждан; формирует коллективную память и коллективные оценки исторических событий периода пандемии.
Заключение
Фольклор, обсуждающий пандемию, в частности комический фольклор, выявляет наибольшее общественное напряжение в демографической и политической сферах. Более резко выражена критика общественных институтов; большая лояльность наблюдается к порокам отдельных индивидов как менее угрожающих общественной безопасности и благополучию. Отражается недоверие обывателей к власти как ранее демонстрировавшей некомпетентность и неэффективность и теперь не обеспечивающей желаемых мер поддержки, но отягощающей жизнь граждан абсурдными требованиями и штрафами. Помощь другим государствам оценивается как пренебрежение собственными гражданами. Однако встречается и резко отрицательная оценка индивидуальных нарушений санитарных норм как угрожающих остальному населению. Резко отрицательная оценка указывает на общее недовольство и тревогу, стресс и пессимизм, а также защитное поведение. Индивидам тяжело приспосабливаться к новым условиям и требованиям, а длительность стрессовой ситуации порождает, с одной стороны, пессимистичные настроения и неблагоприятные прогнозы, с другой – безразличие к вероятности заболевания. Использование благга как формы комизации ситуации указывает на фик-сацию/прогноз необратимых изменений в общественной нормативно-ценностной системе и повседневных практиках. Вербализация негативной оценки позволяет снизить напряжение в обществе и усилить общественную солидарность.
Индивиды чувствуют себя не защищенными ни от вируса, ни от произвола властей и, следовательно, полагаются только на себя. Существенный процент самоиронии указывает на то, что люди готовы закрывать глаза на недостатки, которые в отечественном социуме считаются простительными, и подбадривать себя и свое окружение, снижая уровень паники и формируя уверенность в собственных силах и возможностях справиться с ситуацией самостоятельно. Однако обман контролирующих органов оправдан, только если он мотивирован необходимостью, как то выйти на работу, или восстанавливает справедливость, или направлен на сохранение прав и свобод. При этом нарушение санитарных норм по глупости или отказ от вакцинации вследствие отсутствия здравого смысла, как, например, в случае следования теориям заговора, осуждается.
Дефицит лекарств и рост цен на санитарные средства, отсутствие финансовой поддержки, потеря работы вызывают ненависть к лицам со сверхдоходами, в особенности тем, кому пандемия принесла выгоду.
Пандемия выявила ряд мелких пороков, в первую очередь в семейных отношениях, но также в других аспектах межличностной сферы. Так, нежелание общаться и проводить время вместе, отсутствие любви, заботы, нежелание родителей учить и воспитывать своих детей, скупость и неверность и даже ненависть к родственникам не столь ярко проявляли себя, пока семьи не оказались вынуждены проводить много времени вместе. Таким образом, пандемия выявила разобщенность людей.
Отмечается, что пандемия выявила деградацию человека во всех сферах, и его иллюзорная корона упала при столкновении с непреодолимой разрушительной силой «короны» вирусной.
Отмечаются абсурдизация жизни, вызванная новыми реалиями, и дегуманизация человека, начавшаяся ранее и выявленная новыми ограничениями. Осуждаются глупость и ригидность, неумение принять новые реалии и выжить в них благодаря находчивости, приспособиться; изменение нормативно-ценностной системы общества и стереотипов фиксируется как данность.
Список литературы Семантика пандемии в русском комическом фольклоре
- Агзамова Н. Ш., Адилова А. Ш. Этические последствия пандемии КОВИД-19 // Академический вестник ELPIT. 2020. Т. 5, № 3. С. 6-10.
- Адигезалова И. В., Ядрихинская Е. А. Экзистенциальные проблемы современного общества // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2021. № 2. С. 3-6.
- Баринов Д. Н. Медиавирус страха: особенности репрезентации российскими СМИ пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в период первой волны (январь-июнь 2020 года) // Социодинамика. 2021. № 2. С. 73-86. URL: https://nbpublish.com/library_read_article. php?id=35066. DOI: 10.25136/2409-7144.2021.2.35066.
- Гезалов А. А., Аллахвердиев И. И. Роль философии в развитии общества в период трансформации // Вестник Российского философского общества. 2021. № 1-2. С. 118-127. DOI: 10.21146/1606-6251-2021-1/2-118-127.
- Годдард К., Вежбицкая А. Семантика во время коронавируса: "Virus", "bacteria", "germs", "disease" и соотносимые понятия // Russian Journal of Linguistics. 2021. Т. 25, № 1. C. 7-23. DOI: 10.22363/2687-0088-2021-25-1-7-23.
- Квак А. В., пойда Е. Е. Пандемия короновируса через призму философии // Fundamental and applied approaches to solving scientific problems: сб. науч. ст. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 27 авг. 2021 г. Уфа, 2021. С. 108-111.
- Копылкова Е. А. Анекдот как средство переживания национальной идентичности (на материале анализа еврейских анекдотов): дис. ... канд. психол. наук. М., 2006. 202 с.
- Котова В. С. Мемы на тему ковида как летопись пандемии // Медиасреда. 2021. № 1. С. 102-113.
- Лубина Л. Н. Комический эффект как трансформация нормы, национально-культурное в комическом // Вестник Югорского государственного университета. 2011. № 1. С. 85-88.
- Осьмушина А. А. Социально-философские основания комического социо-демографических и этнокультурных групп: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Саранск, 2017. 22 с.
- Осьмушина А. А., Ингл О. П. Этнопедагогическое значение комического в творчестве мордовского народа // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 3. C. 415-421.
- Попова О. В. Философский контекст пандемии // Человечество в новой реальности: глобальные биотехнологические вызовы: сб. ст. М., 2022. С. 274-284.
- Сарна А. Я. COVID-19 как медиавирус: дискурсы профилактики и паники // Стратегические коммуникации в современном мире: сб. материалов по результатам науч.-практ. конф. Саратов, 2020. С. 152-161.
- Уханова М. А. Анекдоты в цифровой среде (лингвокогнитивный анализ анекдотов в сети) // Когнитивные исследования языка. 2020. № 3. С. 483-488.
- Хохлова М. Р. Лексико-семантическое поле «пандемия коронавируса» как языковой маркер современности (на материалах английского и русского языков) // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: материалы докл. XIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Саратов, 2021. С. 158-162. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ leksiko-semanticheskoe-pole-pandemiya-koronavirusa-kak-yazykovoy-marker-sovremennosti-na-materialah-angliyskogo-i-russkogo-yazykov.
- Burke K. Permanence and change. Los Angeles: University of California Press, 1984. 336 p.
- CMopicki W., Brzozowska D. Sophisticated humor against COVID-19 - the Polish case // Humor: International Journal of Humor Research. 2021. Vol. 34, issue 2. P. 201-227. DOI: 10.1515/ humor-2021-0015.
- Davies C. Jokes and targets. Bloomington: Indiana University Press, 2011. 300 p.
- Gervais M., Wilson D. S. The evolution and functions of laughter and humor: A synthetic approach // The Quarterly Review of Biology. 2005. Vol. 80, no. 4. P. 395-430. DOI: 10.1086/498281.
- Granitsas D. A. All laughter is nervous: An anxiety-based understanding of incongruous humor // Humor: International Journal of Humor Research. 2020. Vol. 33, issue 4. P. 625-643. DOI: 10.1515/humor-2019-0015.
- Grimm J., Grimm W. Kinder- und Hausmaerchen. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1815. URL: https://archive.org/details/GrimmKinderUndHausmaerchen2-1815/page/n22/mode/1up.
- Guo Y., Xypolopoulos C., Vazirgiannis M. How COVID-19 is changing our language: detecting semantic shift in Twitter word embeddings. URL: https://arxiv.org/pdf/2102.07836.pdf.
- Karsdorp F., Fonteyn L. Cultural entrenchment of folktales is encoded in language // Palgrave Commun. 2019. Vol. 5, no. 25. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-019-0234-9.
- Marteinson P. G. On the problem of the comic: A philosophical study of the origins of laughter. New York: Legas, 2006. 224 p.
- Morales F. X. Society and the moral semantics of the COVID-19 pandemic: a social systems approach // Kybernetes. 2021. DOI: 10.1108/K-11-2020-0762.
- Nadales M. R. Retellings of tradition. Little Red Riding Hood and the voice of the wolf // Fabula. 2019. Vol. 60, no. 3-4. P. 244-262. DOI: 10.1515/fabula-2019-0016.
- Olah A. R., Ford E. T. Humor styles predict emotional and behavioral responses to COVID-19 // Humor: International Journal of Humor Research. 2021. Vol. 34, issue 2. P. 177-199. DOI: 10.1515/humor-2021-0009.
- Olah A. R., Hempelmann C. F. Humor in the age of coronavirus: a recapitulation and a call to action // Humor: International Journal of Humor Research. 2021. Vol. 34, issue 2. P. 329-338. DOI: 10.1515/humor-2021-0032.
- Samigoullina A. D. English coroneologisms: function and semantics // International Research Journal. 2021. No. 3-3. P. 166-170. DOI: 10.23670/IRJ.2021.105.3.092.
- Sebba-Elran T. A pandemic of jokes? The Israeli Covid meme and the construction of a collective response to risk // Humor: International Journal of Humor Research. 2021. Vol. 34, issue 2. P. 229-257. DOI: 10.1515/HUMOR-2021-0012.
- StrickM. Funny and meaningful: Media messages that are humorous and moving provide optimal consolation in corona times // Humor: International Journal of Humor Research. 2021. Vol. 34, issue 2. P. 155-176. DOI: 10.1515/humor-2021-0017.
- Takovski A. Coloring social change: Humor, politics, and social movements // Humor: International Journal of Humor Research. 2020. Vol. 33, issue 4. P. 485-511. DOI: 10.1515/humor-2019-0037.
- Toelken B. The dynamics of folklore. Boston: Houghton muffin company, 1979. 395 p. URL: https://archive.org/details/dynamicsoffolklo0000toel/page/225/mode/1up.