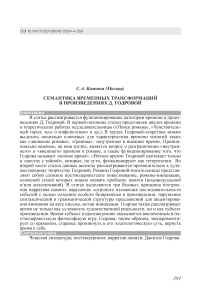Семантика временных трансформаций в произведениях Д. Годровой
Автор: Кожина С.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
АВ статье рассматривается функционирование категории времени в произведениях Д. Годровой. В первой половине статьи представлен анализ времени в теоретических работах исследовательницы («Поиск романа», «Чувствительный город: эссе о мифопоэтике» и др.). В трудах Годровой-теоретика можно выделить несколько ключевых для характеристики времени понятий таких как «движение романа», «граница», «внутреннее и внешнее время». Принципиально важным, на наш взгляд, является вопрос о разграничении «внутреннего» и «внешнего» времени в романе, а также функционирование того, что Годрова называет «вечное время». «Вечное время» Годровой протекает только в «местах с тайной», которые, по сути, функционируют как гетеротопии. Во второй части статьи данные аспекты рассматриваются применительно к художественному творчеству Годровой. Романы Годровой-писательницы представляют собой сложное постмодернистское повествование, романы-инициации, ключевой темой которых можно назвать проблему памяти (индивидуальной и/или коллективной). В статье выделяются три базовых принципа построения нарратива памяти: нарушение логичного изложения последовательности событий с целью создания особого безвременья в произведении, нарушение синтаксической и грамматической структуры предложений для акцентирования внимания на акте письма, мотив инициации. Годрова также рассматривает время не только как условность художественной реальности, но и как субъект произведения. Время-субъект в произведениях оказывается вовлеченным в постмодернистскую философскую игру. Годрова, таким образом, экспериментирует со временем, стараясь проникнуть в его эсхатологическую суть, вернуть время к себе.
Чешская литература, постмодернизм, нарратив памяти, даниэла годрова
Короткий адрес: https://sciup.org/149147196
IDR: 149147196 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-291
Текст научной статьи Семантика временных трансформаций в произведениях Д. Годровой
Czech literature; postmodernism; memory narrative; Daniela Hodrová.
Даниэла Годрова (1946–2024) – чешская писательница и теоретик литературы. Ее творчество представляет собой непростой, но интересный материал для изучения чешской постмодернистской прозы. Первые крупные произведения, романная трилогия «Город мучений» («Под двумя видами», «Куколки» и «Тета»), опубликованы в 1991 г.; параллельно исследовательница издала несколько крупных философско-литературоведческих работ «Поиск романа» (1989), «Роман-посвящение» (1993), «Места с тайной» (1994), «Поэтика мест: главы о литературной тематологии» (1997) и др., которые являются в значительной степени дополнением к ее художественному творчеству, продолжая и развивая представленные в нем идеи. Поздние романы «Вызываю» (2006), «Спиральные предложения» (2015), «Эта близость» (2019) представляют собой более осознанный синтез философских идей теоретика литературы, исследующего тему генезиса романа и анализирующего развитие символов с архетипической семантикой, с художественной их реализацией писателя-постмодерниста. Это тексты, в которых отсутствует эксплицитно выраженное событие; они выстраивают свою композиционную структуру вокруг ключевых точек, центров эпического напряжения, разрастаясь повествованием вширь и внутрь. В статье внимание сосредоточено в первую очередь на временных трансформациях, представленных в творчестве Годровой, функции, способах репрезентации протекания времени в текстах.
В первую очередь рассмотрим, как Годрова-теоретик анализирует понятие «времени» в своих литературоведческих работах. В первом теоретическом труде «Поиск романа», который также стал базисом для дальнейших исследований Годровой в области литературоведения в целом и в области генезиса романа, автор вводит понятие « движение романа ». В работе исследовательницы речь идет в первую очередь о «движении» как о синониме слова «развитие» или «эволюция» в отношении романа как жанра: «Движение и поиск не являются атрибутами исключительно романного жанра, поскольку жанр сам по себе является феноменом динамичным и находящимся в поиске, однако мы можем утверждать, что в отношении романа поиск и движение более выразительны» [Hodrová 1989, 11]. Движение является одним из базовых тезисов построения и всех художественных произведений Годровой, так как перемещение персонажей по Праге является ключевым способом выстраивания нарратива.
В «Чувствительном городе: эссе о мифопоэтике» (2006), следующем крупном теоретическом исследовании Годровой, сделан больший акцент на способ восприятия текста. Ключевым аспектом работы становится рассмотрение понятия «текст города». Более детально автор характеризует субъект повествования, перемещающийся в данном пространстве, топосе города, за которым очевидно просматривается семантика мифического лабиринта. Примечательна в данной работе параллель между процессом хождения, перемещения в городе, и временными пластами, которые таким образом актуализируются. Годрова приводит цитату из работы В. Цилека «Маком. Книга мест» (2004): «Путешествуя, мы становимся прямыми участниками, ходьба объединяет нас со всеми прошлыми путешественниками, ноги обновляют нашу память» [цит. по Hodrová 2006, 180]. Город, согласно Годровой, является наслоением разнообразных смыслов (данный тезис близок к пониманию города как дискурса Р. Барта [см. подробнее Barthes 1993, 415]) и только персонаж в движении может собрать его воедино: «Да, мне кажется, что существование такого центра (города – С.К. ) и такого процесса (перемещения по городу – С.К .) понимания показывает, что именно такой прохожий и житель наделяет город, часто кажущийся хаотичным переплетением разнообразных структур, своим чтением и писанием смысл [Hodrová 2006, 183].
Вероятно, наиболее плотно к вопросу времени в романе Годрова подошла в работе «Роман-посвящение», однако одновременно это наиболее сложная литературоведческая работа писательницы: здесь автор все больше отходит от объективного научного дискурса, увеличивая роль субъективных характеристик, усложняя повествовательную структуру текста добавлением сравнений, метафор, перечислений и др. Данная работа представляет собой анализ структуры романа-инициации, древнейшего, по мнению Годровой, романного типа; основу романов данного типа составляет сюжет с блуждания адепта в поисках таинства с обязательным прохождением лиминальной стадии. Здесь Годро-ва рассматривает следующий ключевой для ее понимания времени аспект – понятие границы: «Пространству границы соответствует незаметный отрезок – порог. Время границы приближается к точке. Пространство границы чаще всего образует собой линию – круг, так как данный отрезок бывает ограничен, с одной стороны, дорогой блужданий по кругу адепта во внешнем пространстве, с другой стороны – магическим кругом, ограничивающим обряд, как ребенок отделяет кругом пространство своей игры, как Великий Могол очерчивает кровью пространство черного обряда» [Hodrová 1993, 181]. Круг в данном случае является формой дифференциации времени, разграничения его на «внутреннее» и «внешнее»: «Внутреннее время бесконечно, представляет собой божественное безвременье, время без границ, потому что его начало и конец расплываются в мифе как рождение и смерть героя» [Hodrová 1993, 182]. Внутреннему времени, согласно Годровой, присущи такие характеристики как детерминированность (оно всегда ярко маркировано в произведении) цикличность и ветвление по спирали к некоему эсхатологическому истоку.
Годрова как бы выделяет из потока однообразного времени – конкретное: определенное «святое» время, время перерождения – инициации. Автор определяет три понятия такого «вечного времени»:
-
1. Мистическое время (это основное время инициационного романа, цикл одного года);
-
2. Родовое время (это «светское» время, характеризующее поведение данного конкретного персонажа, определяемое его социальным положением; родилось во времена средневековья);
-
3. Время души (время «спасения», куда персонаж романа-инициации стремится попасть, безвременье вечного спасения, недостижимое воспоминание о времени рождения).
Однако остается открытым вопрос о том, какими представляются Годро-вой границы этого «вечного времени». Философские воззрения автора по данному вопросу сливаются с характеристиками пространственных отношений: часто столкновение персонажа или нарратора с «вечным временем» происходит только в определенных пространствах – «местах с тайной». «Место с тайной», согласно представлениям Годровой, это «[…] специфическое литературное изображение сакрального места, является более выразительным, нежели носитель памяти» [Hodrová 1994, 10], в данном пространстве происходит наслоение временных пластов исторической памяти, их взаимопроникновение и, следовательно, погружение персонажа в то самое безвременье или «вечное время». На наш взгляд, подобное определение схоже с трактовкой понятия «гетеротопия» М. Фуко: «<…> гетеротопия начинает функционировать в полной мере, когда люди оказываются в своего рода абсолютном разрыве с их традиционным временем» [Фуко 2006, 200]. Выделяя такие гетеротопии «безвременья», М. Фуко в первую очередь говорит о гетеротопии кладбища, как места контакта индивида с вечностью. Вслед за ним Годрова для иллюстрации своих «мест с тайной» и связанной с ними идеи «вечного времени» так же избирает пространство кладбища, перенося действие романа на Ольшанское и Старое еврейское кладбища в Праге. Следующей важной гетеротопией Фуко является пространство театра. Для Годровой таким театром становится (в прямом смысле) Виноградский театр в Праге и (в переносном) – вся Прага [см. подробнее Кожина 2023, 285–286].
Время в «Романе-посвящении» Годровой рассматривается и как субъект романа-инициации и, следовательно, претерпевает те же изменения: оно обращается в прошлое, спускается [курсив мой – С.К.] в определенное собственное пространство, смотрит на само себя, переживая катабасис – лиминаль-ную стадию с целью перерождения/обновления. Таким образом, время, как и персонаж, в произведении, согласно концепции Годровой, проходит инициацию: на протяжении всего романа он спускается – во время прошлого: «Оно смотрит само на себя, приходит к своему наполнению, в минуты познания сво- его начала, как и адепт (нашедший, Эдип). Время спускается к своему началу, в собственное внутреннее пространство. Катабасис времени подобен катабасису адепта, взгляд времени обращен внутрь, как и взгляд того, который стремится к посвящению в таинство. Время, которое ищет само себя, стремится достичь мистического безвременья, предшествующем созданию, времени адепта-Бога, внутреннего времени посвящения» [Hodrová 1993, 183].
Таким образом, для Годровой при теоретическом осмыслении концепта времени в произведении ключевыми являются понятия «движения», которое касается как персонажей, так и времени в функции субъекта, а также «пересечения границы», которым дифференцируется внешнее (обычное) время и время инициации (особое время посвящения в таинство). Годрова также указывает, что время, как и персонаж, стремится к постижению внутреннего «я», таинственного начала всего в мире.
Подобную характеристику времени мы наблюдаем и в художественных произведениях Годровой. Стоит отметить, однако, что для современной литературы, и, уже, для произведений с темой самопознания и саморефлексии, в целом характерна неопределенность, размытость хронотопа: характеристики пространства и времени перестают быть ключевыми принципами организации повествования. Можно сказать, что Годрова, отказываясь в своих произведениях от тривиального использования пространственных и временных характеристик, в целом соответствует современным тенденциям литературного процесса, однако, в ее понимании данных аспектов наблюдаются отличительные особенности, которые позволяют говорить об особом понимании Годровой роли и функции времени в произведении.
Во-первых, это нарушение логичного изложения последовательности событий с целью создания особого безвременья, ощущения просто присутствия времени при отсутствии четких его характеристик. Как заметила в своей статье Катержина Штернбергова «Время в “Тете” Даниэлы Годровой»: «Даниэла Годрова в своих работах отказывается от традиционной временной и пространственной схемы: время в ее романах не движется объективно или субъективно. Оно просто длится» [Sternbergová 1993, 9]. Это утверждение применимо по отношению ко всем произведениям Годровой. Часто в романах автор, повествуя об истории жизни отдельного персонажа, как бы «перескакивает» во времени: рассказывая о чем-то конкретном, забегает вперед, прерывая рассказ ремаркой «[…] но Дивиш об этом еще не знает, еще нет» [Hodrová 2017, П 93] (здесь и далее цитаты из трилогии Годровой «Город мучений» 1991 г. даются по сборнику 2017 г. с пометкой, соответствующей отдельному роману: «Под двумя видами» – П, «Куколки» – К, «Тета» – Т). Или вдруг позволяет взглянуть на будущее персонажа: «Не думает же пан Турек, как однажды подожжет себя между Музеем и Продуктовым домом в январе?» [Hodrová 2017, П 25]; «И вдруг (как раз спускается по эскалатору на станцию Старомнестская) София Сыслова поймет: ведь это поэт “Мая”. И тогда ей станет понятно, что он делал на Шибеничаке и почему она встретила его на Франтишку. Но разве поэт не ушел давно в Литомнержице? Ведь он тушил там пожар и заработал воспаление легких… Как интересно София Сыслова все собирает воедино. Как будто то, что было, все еще где-то есть, застряло в пространстве, как будто время крутится как на карусели. Но в таком случае это значит, что то, что когда-то случилось, случится вновь» [Hodrová 2017, К 244]; «Она знает, что должна открыть двери как можно скорее. Если бы София Сыслова открыла двери немного медленнее, она бы увидела там прошлое, которое в ее отсутствие все еще разветвляется, постоянно, вплоть до того момента, как она войдет в комнату» [Hodrová 2017, К 385]. Персонажи-лейтмотивы, вокруг которых разрастается повествование, часто вовсе лишены конкретных временных характеристик. Так, например, Дивиш Паскал, проживает одновременно в настоящем и прошлом, так как именно ему открывается тайна квартиры у Ольшанского кладбища – «места с тайной», места контакта прошлого и будущего: «Где был тогда спаситель Дивиш, почему не поспешил, не поймал ее руку, не поднял муфту, почему позволил Алице с муфтой уйти в мир и в смерть, из которой теперь пытается ее вытащить? Но как он мог тогда быть там, если еще не родился» [Hodrová 2017, П 70].
Так Годровой удается реконструировать прошлое, «оживить» мёртвых и пустить живых в их царство. Все повествование можно назвать или как «присутствие прошлого» или как «прошедшее настоящее». И если в романах 1990-х гг., из которых в основном и были представлены примеры, еще можно вычленить отдельные ключевые события и проходящих сквозь них персонажей, то в романах нового тысячелетия это сделать намного сложнее: происходит разрастание нарратива в разные стороны, «голоса» персонажей смешиваются, часто перебивают друг друга: «Ева Томашкова ведет маму в кухню, шаг за шагом, кого я видела в последнее время, чтобы так ходили? мама, которой будет через полгода сто лет, выстукивает на столе-фисгармонии народные песни, при этом напевая, иногда мы подпеваем ей <…> Жизнь Евы – это дерево, которое отец помнил еще ребенком, оно соединено, как и жизнь Богуньки, с черешней, а мое – с акацией, бывааали вы, бываааали вы, какое дерево? мама о дереве не помнит, хоть и видит его день ото дня из окна, пахаляпахаля но ма-ааало, колечко у меня, колечко у меня сломалось, она даже о грозе не помнит? вчера, говоришь? вчера? с удивлением слушает, как Ева описывает эту болезнь, двор был покрыт непроходимым слоем обломков, ахсыноксынок домалиты? вот эта нравилась президенту Масарику, ее пели у него на похоронах, снова и снова ее играет <…>» [Hodrová 2015, 169]. В данном примере примечательно и то, что наслоение временных пластов реализуется не только на семантическом (воспоминания и аллюзии накладываются на сцену из жизни персонажей), но и на грамматическом уровнях (смена времени глаголов). Ощущение мистического безвременья достигается и внедрением слов народной песни, переданных при помощи звукоподражания, имитации ее реального звучания и мелодии. При прочтении подобных текстов создается ощущение не сколько перескоков во времени (как мы наблюдали это в предыдущих цитатах из романов 1990-х гг.), сколько бесконечного протекания времени в некоем безвременье. Кроме того, стоит отметить, что Годрова часто опускает союзы (например, союз и), так как сама отмечает, что они разбивают предложение, нарушают его стройную структуру: «Я знаю, почему мне вдруг захотелось опустить союз и, которым изобиловали первые мои два романа. В действительности союз и не объединяет предложения, а разделяет их» [Hodrová 2017, 505].
Во-вторых, при изложении событий Годрова прибегает к особым синтаксическим средствам. Повествовательные техники романов 1990-х и 2000–2010-х гг. в целом обнаруживают некоторые различия. В произведениях 1990-х гг. автор, как будто вычленяет из повествования отдельные эпизоды, акцентирует на них внимание читателя как на ключевых (из-за чего создается ощущение «скачков», «ремарок», «отсылок» – неровность повествования). Происходит, следовательно, очень четкое разграничение пространства и времени на то самое «объективное»/«обыкновенное» время и некое «мистиче- ское»/«необыкновенное», в котором с персонажами происходит нечто знаменательное. К. Штернбергова отмечает, что время в произведении как будто «застают врасплох» как нечто ускользающее, объединенное только одним ключевым событием – непосредственно актом порождения текста [Sternber-gová 1993, 9]. В то время романы 2000-х и 2010-х гг. характеризуются более плавным перетеканием времени, его растворением в том самом безвременье, в котором проходит инициация. Однако акцент на процессе порождения текста остается: «Вот опять Алице Давидовичова влезает на белую столешницу, по-шарпанную и шатающуюся, которая осталась в моей детской комнате, ступает с нее на оконную раму, и моя мама снова стоит на окне в кухне, которое ведет на улицу Милешовску, машины проносятся по мокрому асфальту, до вечера падает дождь, после которого я ожидала облегчение, но он не принес его мне, мама ждет, что в любой момент кто-то из этих двоих, или ее дочь, или ее муж, войдет в кухню, чтобы ее остановить, но не приходят, не прыгнет и в этот раз, в тот момент, когда я пишу эти слова ручкой марки Центрум» [Hodrová 2015, 12]. Таким образом, ключевым принципом творческого метода Годровой становится рефлексия текста, исследование нарратива и его генезиса (как части вспоминания прошлого). «Перескоки» во времени, нарушение логической последовательности событий можно рассматривать как попытку воссоздания в художественном произведении процесса вспоминания. Текст в таком аспекте становится способом вербализации мыслительного процесса, а также способом его фиксации. Акцент на непосредственном акте порождения текста также является примером «безвременья»: произведение Годровой существует сразу в нескольких временных промежутках – времени прошедшем, когда он был написан (для автора это настоящее), времени настоящем, в момент прочтения (для автора это будущее) и будущем, когда он может быть будет прочитан кем-то еще. Рефлексия данного процесса в произведениях Годровой делает сам текст субъектом повествования (переход в статус субъекта мы наблюдали и в отношении к времени в романе).
В-третьих, важную роль в романах играет проблема коллективной исторической памяти в целом. Возвращение исторической памяти является центральной темой всех произведений Годровой: воспоминания имеют тесную связь с местами, локусами, в которые попадают персонажи, перемещаясь по Праге. Примечательно, что контакт с прошлым носит так же характер инициации: часто сопряжен с мотивом перерождения и отсылает к более философским вопросам устройства вселенной. Так, например, героини романной трилогии 1990-х гг. олицетворяют собой проводников в историческое прошлое Праги (София Сыслова, Элишка Беранкова) или мотив травмы (Алице Давидовичова, еврейская девушка, которая покончила с собой перед отправкой в лагерь). В то же время в романах 2000–2010-х гг. нарративные линии персонажей становятся еще более размытыми, нарушается тривиальная система точек зрения (в том числе сменой лица глагола, о чем частично шла речь выше). Нарратив, таким образом, направлен не только на изображение исторической памяти, но и на вовлечение читателя в постмодернистскую игру выстраивания текста: «В мире эстетической игры встречаются мир фиктивный и реальный, авторский и читательский. Они, таким образом, наполняются сосуществованием трех миров: встреча мира реального и фиктивного приводится в движение светом эстетической игры. Читателя поглощает мир вымысла, очевидно отличный от реального мира, однако нет сомнений, что они связаны» [Suchomel 2006, 307– 308]. В последних работах Годровой более, нежели прежде, читатель является вовлеченным в путешествия и воспоминания персонажей и проходит вместе с ними своеобразный ритуал воскрешения и актуализации определенных представлений о мире и отдельных его воплощениях на страницах произведений, позволяя говорить о движении в широком понимании: от процесса порождения произведения непосредственно сквозь текст к восприятию его читателем.
Подводя итог, обобщим, что в подходе Годровой к изображению времени в романах мы выделили три ключевых принципа: нарушение логической последовательности событий с целью создания нарратива «безвременья»; нарушение синтаксической и грамматической структуры предложений для акцентирования внимания на акте письма и проблеме существования художественного текста во времени (вовлечение читателя в постмодернистскую языковую игру); воскрешение воспоминаний с целью изображения надвременной истории и/или иллюстрации метафизической модели человеческого бытия. Важным моментом здесь является то, что Годрова рассматривает время не только как условность художественной реальности, но и как субъект произведения; вовлекая время-субъекта в постмодернистскую философскую игру, Годрова словно экспериментирует со временем, стараясь проникнуть в его эсхатологическую суть, вернуть время к себе.
Список литературы Семантика временных трансформаций в произведениях Д. Годровой
- Кожина С. А. Пространство Праги как архитекст в романах Д. Годровой // Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Институт славяноведения РАН, 2023. С. 275-303.
- Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. С. 191-204.
- Barthes R. Semiology and Urbanism // Architecture Culture: 1943-1968. Columbia: Columbia Book of Architecture (CBA); Rizzoli, 1993. P. 415-418.
- Hodrová D. Hledání románu: kapitoly z historie a typologie zánru. Praha: Ceskoslo-vensky spisovatel, 1989. 275 p.
- Hodrová D. Citlivé mésto. Praha: Akropolis, 2006. 416 p.
- Hodrová D. Místa s tajemstvím: (kapitoly z literární topologie). Praha: Koniasch Latin Press, 1994. 214 p.
- Hodrová D. Román zasvécení. Praha: H+H (H&H), 1993. 230 p.
- Hodrová D. Tocité véty. Praha: Malvern, 2015. 305 p.
- Hodrová D. Tryznivé mesto. Praha: Malvern, 2017. 598 p.
- Sternbergová К. Cas v Thété Daniely Hodrové // Tvar. 1993. C. 27-28. S. 9.
- Suchomel M. Druhy stupeü tryzné // Ceská literatura. 2006. № 2-3. P. 304-313.