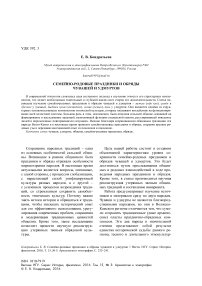Семейно-родовые праздники и обряды чувашей и удмуртов
Автор: Кондратьева Екатерина Валерьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В современной этнологии сложилась идея системного подхода к изучению этноса и его структурных компонентов, что делает необходимым тщательный и глубокий анализ всех сторон его жизнедеятельности. Статья посвящена изучению семейно-родовых праздников и обрядов чувашей и удмуртов - мункун (мăн кун), çимĕк и чӳклеме у чувашей, быдӟым нунал (великтэм), семик (семык), виль у удмуртов. Они являются одними из структурных основополагающих компонентов этнической культуры, которые оказывают воздействие на функционирование всей целостной системы. Большая роль в этом, несомненно, была отведена сельской общине, влиявшей на формирование и наследование традиций, выполнявшей функцию социальной памяти, регулировавшей поведение людей в определенных повторяющихся ситуациях. Именно благодаря сохранившимся общинным традициям эти народы Волго-Камья и в настоящее время проводят семейно-родовые праздники и обряды, сохраняя крепкие родовые узы и передавая многовековой опыт из поколения в поколение.
Чуваши, удмурты, община, семейно-родовые праздники, обряды
Короткий адрес: https://sciup.org/147219593
IDR: 147219593 | УДК: 392.
Текст научной статьи Семейно-родовые праздники и обряды чувашей и удмуртов
Сохранение народных традиций – одна из основных особенностей сельской общины. Возникшие в рамках общинного быта праздники и обряды отражали особенности мировоззрения народов. В настоящее время актуальными являются вопросы, связанные, с одной стороны, с процессом глобализации, с нарастающей силой унифицирующей культуры разных народов, а с другой – с усилением процессов возрождения традиций, со стремлением сохранить самобытность этнических культур. Поэтому важно знать истоки истории и обращаться к традициям, чтобы извлекать исторический опыт для его эффективного использования, урегулирования современных проблем, сохранения и модернизации традиционных ценностей общества. Кроме того, такое исследование позволяет провести научную реконструкцию утерянных звеньев обрядовой культуры.
Цель нашей работы состоит в создании объективной характеристики уровня сохранности семейно-родовых праздников и обрядов чувашей и удмуртов. Это будет достигаться путем прослеживания общинных и родовых взаимодействий в ходе проведения народных праздников и обрядов. Кроме того, в статье производится научная реконструкция утерянных звеньев общинных традиций и составление инварианта.
Работа предусматривает изучение источников и материалов сразу по двум народам. Чуваши и удмурты не являются близкородственными народами, но они в Волжско-Камском регионе отличаются тем, что сумели сохранить традиционные (даже архаические) пласты празднично-обрядовых комплексов. Эти два народа в значительной степени представляют собой результат единства исторической судьбы данного региона, тесного и длительного этнокультур-
Кондратьева Е. В. Семейно-родовые праздники и обряды чувашей и удмуртов // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 235–241.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 5: Археология и этнография
ного взаимодействия с соседними этносами, о чем свидетельствуют их стадиально-типологическая близость, мощный общий культурный пласт и многочисленные сходства и параллели. В то же время именно чуваши и удмурты являются крепкими хранителями родовых связей.
Хронологические рамки исследования – XVIII – начало XXI в. Это означает наличие большого объема источников по данной теме, что поможет обеспечить успешное решение поставленных задач. В рамках данного временного интервала община переживала процесс активного и полноценного функционирования в проведении традиционных праздников и обрядов (особенно в XVIII – начале XX в.), а на рубеже XX– XXI вв. – трансформационные изменения. Основное внимание предполагается сосредоточить на периоде со второй половины XIX по начало XX в., когда еще бытовали традиционные формы и патриархальный уклад жизни чувашского и удмуртского крестьянства.
Данная статья является первым исследованием по названной теме. В ней вводятся в научный оборот новые полевые материалы, собранные автором в Республике Удмуртия в 2014 г., Чувашской Республике и Ульяновской области в 2015 г.
В жизни чувашей и удмуртов имело большое значение поклонение умершим прародителям и сородичам. Люди верили, что если провести в честь умерших предков обряды и праздники, то это поможет живым, поскольку семейно-родового покровителя определяет роль хранителя и благодетеля семьи [Токарев, 1990. С. 255].
Поклонение своим святыням-покровителям у чувашей выражалось в почитании Йĕрĕх. Это имя имеет три значения: божество, предмет-символ божества, место обитания. Моления в честь них совершались в коренном доме рода. Там собирались обитатели многих дворов, но только те, кто находился в кровном родстве друг с другом [Ха-рузин, 1889. С. 26]. Родовое святилище было одним на всю деревню, если жители относились лишь к одному роду. Бывало, что в состав деревни входило несколько родов, тогда количество святилищ было равным числу родов. Моления в нем проводил специально выбранный с помощью жеребьевок на сельском сходе молельщик вӧсясь. Встречалось, что Йĕрĕх хранился и в каж- дом роде или доме. Однако идол, находящийся в коренном доме рода, считался главным [Салмин, 2007. С. 374]. К Йĕрĕх чаще обращались женщины.
Поклонение своим святыням-покровителям у удмуртов выражалось в почитании Воршуд . Они ассоциировались с женщиной-прародительницей и носили женские названия [Тезяков, 1896. С. 5]. Это имя происходит из двух слов: вордыны – «родить, растить» и шуд – «счастье» (или другое сочетание: вордыны «родить, растить» и шудыны «воспроизводить, порождать, рождать» [Владыкина, Глухова, 2011. С. 39]. Обе части, как видим, определяют процесс воспроизводства рода. К Воршуд , как и к Йĕрĕх , чаще обращались женщины. Моления в честь прародительницы совершались в родовом святилище быдӟым куала .
К весенним праздникам рода по приему духов предков относятся мункун ( мăн кун ) у чувашей и быдӟым нунал у удмуртов. Эти праздники входят в цикл годовых кормлений родственников, ушедших в иной мир. Они до сих пор считаются великими торжествами в чувашском и удмуртском обрядовых календарях. К тому же следует отметить, что данные праздники были важными и в сельскохозяйственном отношении. Ритуалы, которые проводили в это время, возможно, изначально носили земледельческий характер.
Названия праздников ( мункун ( мăн кун ) и быдӟым нунал ) состоят из двух слов каждое: мăн ( мун ) «большой, великий» и кун «день»; быдӟым «великий, старший» и нунал «день», т. е. в обоих случаях «Великий день». У удмуртов это событие именовалось по-разному: это и быдӟым нунал , и великтэм , и Паска , и Акашка . Например, южные удмурты Пасху именовали Акашка как праздник плуга [Munkácsi, 1887. S. 171–172], что косвенно может свидетельствовать в пользу предположения об изначально земледельческом характере праздника.
Празднование Великого дня было связано с целым рядом специальных обрядов. Например, у чувашей мункун включал обряд калăм – день почитания умерших, собственно мункун и обряд изгнания злых духов и предков – сĕрен. Последний обряд проводили в среду на Страстной неделе. В этот день совершали моление в честь божества Турă [Сбоев, 1865. С. 144], варили кашу, пили пиво. С четверга начинались дни поминове- ния духов предков – мункун. Считалось, что души предков посещают своих родственников от мункуна до димёк (летние родовые поминки с посещением кладбища). В последний, пятый, день чуваши проводили сĕрен. У закамских удмуртов подобные обряды назывались эру карон - обряд игры с вербой, кулон потон жыт - «вечер выхода мертвых», быдзынал келян - проводы Великого дня. Обряд эру карон, который имел самые разные названия, можно перевести и как обряд изгнания злых духов. Это связано с принадлежностью удмуртов к разным этнографическим группам. Великий праздник начинали в пятницу арне нунал, она считалась последней в неделе.
Чувашская и удмуртская община следила за тем, чтобы к этому дню готовились заранее. Во всех домах производили уборку: талой водой мыли стены, потолки, белили печь, топили баню, готовили новую одежду, варили яйца, пиво или кумышку и т. д. Соблюдается это и в настоящее время.
Родственники собирались в коренном доме по отцовской линии (в доме отца и деда), т. е. общего предка, поэтому и поминки назывались общими. Молились и родовому духу-покровителю. Хозяин дома - худа (чув.) и кузё (удм.), составлял список приглашенных. Как правило, созывался узкий круг кровных родственников. К примеру, информант Мария Михайловна Якимова отметила, что их род состоял из 18 домов и считался самым большим в д. Латышево. Однако были случаи, когда среди приглашенных гостей были пускил , куршё (чув.) и бускель (удм.) - соседи.
Старики были главными участниками в действиях поминания духов предков. В четверг же хозяин дома худа ставил свечи, поминая родственников, находящихся в ином мире. Как правило, было столько свеч, сколько душ покинуло это жилище. Ставили также свечку для безродных, поскольку их некому было поминать, и одну свечу во дворе к окну, чтобы идущим в дом покойникам было светло. Под свечи помещали пустой сосуд. Расставив все свечи, начинали петь. Подтеки от свеч вытирали блинами и бросали в сосуд. Помянув одного, свечу тушили. Так повторялось семь раз за всю ночь. В этой связи четверг еще называли «днем свечи» [Салмин, 2007. С. 114]. Рано утром глава семьи выходил к воротам. С собой он брал хлеб, пиво, а также необходи- мые вещи для разведения костра. Разжигал небольшой огонь, приглашал дедов и бабушек, родных и главу кладбища на праздник. Молитву читал старый человек рода в честь предков, а также обращался к Турă с просьбой дать здоровья, хороший урожай, спокойствие в доме и т. п. Удмурты, например, просили у Инмара помощь в полевых работах.
Процесс отделения частиц пищи умершим родственникам чуваши начинали с блинов: три блина выбрасывали к воротам. Во время моления для сбора частиц пищи ставили под стол или около печи специальную посуду. Начинал делить пищу глава дома. Отливая пиво из кружки в емкости, говорил: «Аттене , аннене , пиччене , аппана пултăр » – «Пусть будет отцу, матери, старшему брату, старшей сестре». Остальное выпивал сам. Так же поступали и с остальной едой. За ним обряд повторяли все присутствующие, по старшинству. Старики называли это жертвой умершим. Выделенные покойникам кушанья и пиво женщины выносили на двор и выливали собакам [Сбоев, 1865. С. 144]. Чуваши после моления и отделения частиц пищи стол переставляли в передний угол. Затем проводили так называемый «бой яиц». Цель ритуала – не разбить яйцо в этом состязании. Человек, у которого оно не разбилось, считался паттар -букв. богатырь. Каждый съедал разбившееся яйцо, а паттăр давали другое для еды. Важно отметить, что описываемый обряд сплачивал родственников. Именно паттăр род выдвигал на руководящие роли, считая его своим богатырем, защитником. После этого начиналась совместная трапеза кровных родственников – как живых, так и мертвых. В день Великого дня было принято петь песни под скрипку. Известно, что в них выражали желание преумножить состояние рода и семей, указывали на необходимость почтительного отношения к старикам, хорошего урожая.
Завершив дела в коренном доме, все шли в дом другого родственника. Пожилые члены удмуртской общины ходили к родственникам на пасхальный суп паска-шыд, переходя из жилища в жилище [Владыкина, Глухова, 2011. С. 24]. По дороге они пели, весело разговаривали, желали всем встречным здоровья. Обход домов родни начинался с дома, находящегося на восточной стороне, у удмуртов он назывался курон, у чувашей ĕрет, что значит «ряд». В каждом делали то же, что и в первом. По домам ходили только в пятницу и субботу в темное время суток. Удмурты, например, спрашивали помощь в предстоящих полевых работах [Яковлев, 1903. С. 192]. Днем старики отдыхали. В некоторых местах праздник сократился до одного дня, и обход родственных домов совершался в первый же день.
Несомненно, мункун и быдзым нунал праздновались достаточно давно, еще до распространения православия в этом регионе.
Чувашский ^имёк и удмуртский семик ( семык ) – летние родовые праздники. Их содержание – символическое кормление духов предков.
Слова семик и семык происходят от числа «семь», т. е. седьмой четверг от Великого дня. С введением православия праздник сдвинулся на три дня – с четверга на воскресенье. Сам праздник стал называться Троицей, а непосредственным днем поминовения объявлено воскресенье. Но чуваши д. Средние Алгаши Цильнинского района Ульяновской области и д. Латышево Янти-ковского района Чувашской Республики празднуют димёк по старинному календарю, в четверг, поскольку там еще живут некрещеные чуваши (Е. У. Улиндеева, Н. П. Иль-мендеев, В. А. Селендеев, В. Д. Дмитриев, М. М. Якимова, Д. В. Иванова).
В димёк и семык община строго следила за соблюдением разных запретов. Так, нельзя было копать землю, вывозить навоз, ударять землю, сеять, купаться, заготавливать веники. В противном случае ударит гром. На время прекращались и внутрисельские взаимоотношения (например, не брали и не давали взаймы). В этот день старики шли на кладбище. Хотя туда разрешалось ходить только тем, у кого там похоронены родители и другие ближайшие родственники, практически люди шли из каждого дома. Приезжали и из других деревень имеющие здесь своих покойных родственников. Таким образом, число участников поминок бывало значительным. Отправлялись на кладбище ближе к вечеру, на закате солнца, но ни в коем случае не до обеда. Обязательно брали с собой специально приготовленную еду. Ездили раньше на телегах и тарантасах.
Родственники, приходившие к своим предкам, вешали полотенце на могильный столб. Практиковалось на кладбище носить ветку лиственного дерева. Чаще всего род собирался на могиле общего предка, а на остальные просто относили часть отделенной пищи. Там же стелили холст, выставляли всю принесенную еду и молились: «Ходите старики в свете. Вы ушли на чужую землю, пусть будет там у вас достаточно хлеба и соли. В мире живите со своими друзьями. Мы остались от вас малолетними сиротами» [Емельянов, 1921. С. 26]. В молениях обращались как к духам предков, так и к Турă . Чуваши желали своим родственникам, находящимся на том свете, сытной еды и молочных озер, просили не вспоминать живых и не являться к ним без приглашения. Часть напитков отливали с ладони, кусочки пищи отделяли в чашку. После этого начиналась совместная трапеза рода [Салмин, 2007. С. 274]. Затем, уже перед уходом, чуваши оставляли одежду, чтобы родственники на том свете пользовались ею.
Следует отметить, что в димёк и семык старались не плакать по умершим, наоборот, пели и плясали. По представлению чувашей и удмуртов, это считалось лучше, «и предкам бывало не грустно». Использованную посуду, как правило, выносили и разбивали в овраге. Уезжали с кладбища медленно, чтобы умершие родственники могли проводить живых и соскочить с телеги.
В Мамадышском уезде Казанской губернии существовал обычай ставить столб – дьыбо («памятник») или бильг ( « метку») в память тех своих родственников, которые умерли, находясь в пути или на службе, и похоронены на чужбине. Столбы ставились для того, чтобы душа умершего могла возвратиться домой [Емельянов, 1921].
В димёк и семык на окна крепились зеленые березовые, ореховые ветки, так как на ветках могли посидеть и отдохнуть души предков. Таким образом, они не касаются живых, и на них не будут лаять собаки. Девушки и женщины рано утром шли в лес собирать травы семи видов, которые считались лекарственными. Отваром этих растений семья мылась в бане. Молодежь и дети в димёк и семык, как и в мункун и быдзым нунал, устраивали качели, водили хороводы, играли. Важно отметить, что в это же время в деревне организовывали свадьбы, и брак, заключенный тогда, считался прочным и благополучным 1.
Таким образом, в старину димёк и семык у чувашей и удмуртов рассматривался как отдельный праздник, обладавший архаичными элементами. Раньше он имел больше аналогий с Великим днем: обход домов, посещение кладбища. В последнее же время летний родовой праздник ограничился лишь посещением могил предков. Но до сих пор он остается одним из самых больших торжеств, на которые собирается большое количество родственников.
К числу семейно-родовых праздников относились чувашское чӳклеме и удмуртское виль . Слова чуклеме и виль (букв. «новый») означают благодарение в честь собранного урожая. Их проводили по случаю начала употребления нового урожая и называли «моление новым хлебом» [Cадиков, 2008. С. 203]. Данный праздник был характерен для многих народов, традиционно занятых земледелием. Время его проведения зависело, в первую очередь, от того, когда закончатся у всего рода запасы из старого урожая. Община строго следила за тем, чтобы хлеб из нового урожая сначала посвящали божествам. Только после этого его можно было употреблять. Если род имел еще довольно много зерна, то не спешил провести обряд в честь нового урожая. Бедствующие же родовые ячейки проводили его сразу после завершения дел в овине.
Чуклеме и виль совершались в кругу родственников по отцовской линии, но в нем, могли участвовать и родные по женской линии, а также соседи [Золотницкий, 1875. С. 219]. Чуваши его проводили в коренном доме. Удмурты же собирались на виль в родовой куале. В качестве жертвенных даров, в первую очередь, выступали хлеб, каша, пиво; готовили из свежих продуктов 2. Роль молельщика принадлежала хозяину дома (главе семьи), человеку достаточно состоятельному, легкому на руку, удачливому. Чуваши, к примеру, полагали, что если будет молиться бедный, то будет у них в роду бедный урожай. Иногда могли приглашать знахаря, который и начинал моление. Затем включался старший в доме, а знахарь, стоя рядом, подсказывал ему. В молениях предводитель обращался к верховным божествам, а также к умершим предкам, благодарил их за выращенный урожай и просил принять от рода приготовленные ими жертвенные дары. Затем молельщик подносил каждому из присутствующих ритуальную еду и питье. Именно они служили официальным допуском к обряду. После проведения моления в коренном доме отправлялись в другие родственные дома. Как правило, старались обойти все дома рода.
Сельская община регламентировала поведение крестьян. К примеру, до празднования чуклеме и виль в деревне вводились определенные запреты: не следовало давать в долг, а если случалось, то брали в заклад вещи, а после обменивались ими.
Несомненно, община практически всегда старалась выдвигать лидеров. С такими лидерами и предводителями семейно-родовых праздников и обрядов автору удалось познакомиться во время экспедиции в Республике Удмуртия и Чувашской Республике. Это были молельщики восяси из д. Карамас-Пельга Киясовского района (Г. В. Габитов, В. А. Иванов, Н. И. Смирнов) и сельский староста из д. Латышево Янтиковского района (А. С. Семенов). Они отмечали, что и сейчас стараются сохранить для своих детей все то, что им оставили их предки, особенно родовые связи.
Кровные родственники собирались на эти праздники во благо своему роду, для выражения почтения ближайшим и дальним родственникам. Они обращались к усопшим членам семьи не только с призывом принять от них угощение, но и с просьбами оказать покровительство кузё и худа, сохранить скот, дать богатый урожай. Данные обряды, с одной стороны, являлись формой сохранения родовых связей, исторической памяти и самой идентичности, а с другой – общинники боялись покойников, старались оградить себя от их присутствия специальными обрядами, поскольку многие возникающие жизненные трудности и болезни считались делом рук умерших предков, которые насылали их на людей за непочтительное отношение к мертвым или оскорбление их памяти. В целом, рассмотренные семейнородовые праздники и обряды у чувашей и удмуртов говорят об их схожести в содержании, структуре и функциях.
Список литературы Семейно-родовые праздники и обряды чувашей и удмуртов
- Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-годберган: обряды и праздники удмуртского календаря. Ижевск, 2011. 320 с.
- Емельянов А. И. Курс по этнографии вотяков. Казань: Изд. Казан. Вотского Изд-го подотдела, 1921. 156 с.
- Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1875. 279 с.
- Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и обрядность закамских удмуртов. Уфа, 2008. 232 с.
- Салмин А. К. Система религии чувашей. СПб.: Наука, 2007. 654 с.
- Сбоев В. А. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях. М.: Тип. С. Орлова, 1865. 188 с.
- Тезяков Н. И. Праздники и жертвоприношения у вотяков-язычников//Новое слово. 1896. № 4. С. 1-10.
- Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М.: Политиздат, 1990. 622 с.
- Харузин Н. Н. Вотяки. М.: Тип. Общества распространения полезных книг, 1889. 48 с.
- Яковлев И. В. Из жизни пермских вотяков Гондырского края//ИОАИЭ. 1903. Т. 19, вып. 3-4. С. 183-195.
- Munkácsi B. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest: Kiadjaa Magyar tudomány os akadémia, 1887. S. 169-176.