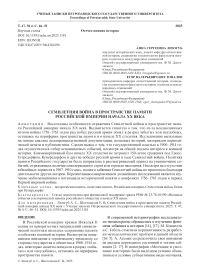Семилетняя война в пространстве памяти Российской империи начала ХХ века
Автор: Лизогуб А.С., Шестопалов Е.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Воссозданы особенности отражения Семилетней войны в пространстве памяти Российской империи начала ХХ века. Выдвигается гипотеза о том, что из-за неоднозначных итогов войны 1756–1763 годов ряд побед русской армии попал в разряд забытых или неудобных, оставаясь на периферии пространства памяти и в начале ХХ столетия. Исследование выполнено на основе анализа делопроизводственной документации, полковых историй, материалов периодической печати и публицистики. Сделан вывод о том, что государственной властью в 1900–1914 годах осуществлялся отбор вспоминаемых событий, несмотря на общий подъем интереса к военной истории. Коммеморативный бум начала ХХ столетия не затронул 150-летие сражения под ГроссЕгерсдорфом, Кунерсдорфом и другие победы русской армии в ходе Семилетней войны. Политика памяти Российского государства была направлена в рассматриваемый период на увековечение событий, отражающих величие самодержавного строя или героизм населения. Несмотря на отсутствие юбилейных торжеств в 1907–1910 годах, полного забвения Семилетней войны не произошло благодаря деятельности других акторов. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение мобилизационного потенциала исторической памяти о конфликте 1756–1763 годов в период Первой мировой войны.
Историческая память, политика памяти, Российская империя, Семилетняя война, битва при Кунерсдорфе
Короткий адрес: https://sciup.org/147248195
IDR: 147248195 | УДК: 94(47).083+94(430).056 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1181
Текст научной статьи Семилетняя война в пространстве памяти Российской империи начала ХХ века
В Российской империи времен Николая II одним из приоритетных направлений символической политики являлось сохранение памяти о событиях военной истории. Несмотря на повышенное внимание к героическому прошлому со стороны государства и общества в 1900–1914 годах, некоторые сюжеты попадали в разряд «забытых» или «неудобных», оставаясь на периферии пространства памяти.
В современной историографии исследователи неоднократно обращались к изучению феномена забвения в истории [14], [17]. М. Коннелли и С. Гебель отметили перспективность разработки методологических проблем в данной области [16: 5]. А. Ассман сосредоточила свое внимание на анализе переходных состояний и техник забвения [2: 17]. В монографии «Молчание и умолчание в истории» были выделены условно объективные и условно субъективные виды молчания, отличающиеся между собой целью умолчания [10: 5].
В научной литературе утвердилось представление о Первой мировой войне как забытой [12: 218], но достаточно часто данный конструкт применялся и по отношению к Семилетней войне. Авторы, признавая значимость конфликта 1756–1763 годов для мировой истории [7: 17], подчеркивали его скромное место в исторической памяти российского общества1. М. Ю. Анисимов констатировал, что в России незамеченным прошло 250-летие Кунерсдорфской битвы, «как и вообще все остальные юбилейные даты Семилетней войны» [1: 869]. Д. А. Сдвижков при публикации писем с Прусской войны во введении подчеркивал, что «в России эта война по-прежнему остается в числе “незнаменитых”» [15: 7].
Российское государство в начале ХХ столетия готовилось отпраздновать длинный перечень памятных годовщин военной истории, в числе которых значились и сражения Семилетней войны. По мнению В. С. Бешкинской, такая активность вокруг юбилеев исторических событий и символов прошлого использовалась Романовыми для формирования и поддержания имперской и национальной идентичностей [4: 157]. В то же время разнообразие коммеморативных поводов создавало условия для проведения отбора вспоминаемых сюжетов, наиболее соответствующих целям государства.
Семилетняя война проходила удачно для русской армии, но, несмотря на общий успех боевых действий, итоги конфликта имели неоднозначный характер. Мирный договор с Пруссией нивелировал все территориальные приобретения, за что получил негативные оценки современников. В условиях поиска символов, способных обеспечить единение монархии и народа после первой русской революции, события 1756–1763 годов имели основания для актуализации в пространстве памяти Российской империи начала ХХ столетия. Приближение 150-летия отдельных сражений Семилетней войны требовало от государственной власти решения вопроса о возможностях и способах использования данного коммеморативного повода, поскольку юбилейные дни сопровождались «концентрированной проекцией официальных образов и символов прошлого на общественное сознание» [5: 8].
150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ:
МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ЗАБВЕНИЕМ
Полуторавековая годовщина битвы под Гросс-Егерсдорфом (1907) осталась незамеченной в Российской империи, еще не успевшей оправиться от революционного взрыва. Вспоминание об од- ной из первых крупных побед русской армии в Восточной Пруссии осуществлялось только в контексте празднования юбилеев полков, принимавших участие в сражении. В 1908 году в преддверии 200-летия 63-го пехотного Углиц-кого генерал-фельдмаршала Апраксина полка указывалось, что в 1757 году его 3-я гренадерская рота под Гросс-Егерсдорфом прошла боевое крещение2.
Одним из инструментов сохранения памяти о войнах и традициях императорской армии являлось составление полковых историй [8: 522]. Они включали в себя систематизированные сведения о службе, героических подвигах и сражениях. Кропотливая работа составителей по отбору и фиксации в полковых летописях событий, значимых для формирования коллективной идентичности, позволяла обеспечить динамику памяти. Данный процесс, по мнению А. Ассман, базировался на взаимообмене между двумя институциональными областями – накопительной памятью (архивом) и активным памятованием (каноном) [2: 37]. В начале XX века почти ежегодно выходили в свет произведения, в которых описывались участие русской армии в войне 1756–1763 годов и предыстория конфликта. Только в 1900 году было издано три исторических очерка3, в общей сложности в рассматриваемый период вышло более десяти сочинений. Таким образом, отобранные и зафиксированные полковыми историками события из жизни воинских формирований получали особый статус в коллективной памяти. Публикация этих материалов создавала условия для их дальнейшего осмысления и использования в будущем.
Из всех победных дат войны с Пруссией в России удостоился вспоминания только разгром Фридриха II при Кунерсдорфе [6: 169]. В 1909 году по случаю этой яркой победы в периодической печати вышел ряд заметок. Первым, кто обратил внимание на приближающуюся «круглую дату», стал генерал-лейтенант в отставке Л. Л. Драке. В статье «К предстоящему 150-летию битвы при Кунерсдорфе» автор признавался, что цель его публикации заключалась не в пересказывании истории сражения, а в напоминании современникам о предстоящей годовщине4. Рассуждая о возможных причинах забвения, Л. Л. Драке подчеркивал значение временной и пространственной отдаленности от сражения. По его мнению, события, в том числе закончившиеся победой, но произошедшие за пределами России, имели меньше шансов остаться в памяти потомков5. Продолжая викто-риальную тематику, полковник В. К. Судравский опубликовал в «Русском инвалиде» список вой- сковых частей, «принимавших участие в этом незабвенном для русской армии сражении»6.
Несмотря на попытки военных историков актуализировать память о битве, со стороны органов государственной власти не последовало никаких указаний об учреждении комитета по подготовке к торжеству, как это происходило по отношению к другим значимым годовщинам военной истории [11: 227]. 150-летие Кунерсдофской баталии стало предметом обсуждения только особой комиссии по разработке порядка чествования юбилеев знаменательных исторических событий, которая 30 марта 1909 года приняла решение не праздновать эту дату7. В ходе дальнейшей работы данного органа битва при Ку-нерсдорфе не попала ни в одну из четырех категорий военных событий, ранжированных по своей значимости для истории государства и армии. При этом другой эпизод Семилетней войны – капитуляция Берлина 1760 года оценивался комиссией как «не представляющий собой никакой исторической ценности»8. Результатом такой характеристики стало решение о нецелесообразности организации торжеств по случаю указанной даты. Таким образом, специальная комиссия не подтверждала и не опровергала значение Кунерсдорфского сражения. Из-за отсутствия официальных обоснований исключения битвы при Кунерсдорфе из перечня чествуемых годовщин можно предположить, что одной из причин такого решения выступила финансовая сторона вопроса. Торжественные церемонии при своей эффективности воздействия на население сопровождались существенными денежными растратами [9: 445]. На празднование Полтавской виктории, которое состоялось также в 1909 году, было выделено 268 тыс. руб.9, поэтому организация других торжеств являлась обременительной для империи.
В августе 1909 года в «Русском инвалиде» были размещены заметка об истории Кунер-сдорфского сражения10, а также ответ Николая II на поздравительную телеграмму от 12-го гренадерского Астраханского полка11. Благодаря этим публикациям читатели имели возможность узнать о памятной годовщине. Об «особом» положении этого события свидетельствовало помещение исторической справки на 3-й и 4-й страницах номера. Тем не менее данная публикация привела к оживленной дискуссии в периодической печати.
Офицер, военный историк и публицист А. А. Свечин раскритиковал историческую справку, автором которой, по всей видимости, являлся полковник А. К. Баиов. Александр Андреевич с сожалением отмечал отсутствие интереса к юбилею данной баталии со стороны научного сообщества12. Причиной его возму- щения послужило ошибочное, по его мнению, описание положения русской армии накануне сражения. Он настаивал на том, что П. С. Салтыков в битве у Кунерсдорфа не разворачивал союзные войска, а сразу расположил их фронтом на юг13. А. А. Свечин упрекал автора исторической справки в переписывании ошибок из-за недостаточного уровня владения информацией. Его критические замечания были расценены оппонентом как «поспешные выводы на почве предвзятых суждений»14. А. К. Баиов для обоснования своей позиции ссылался на авторитетное мнение Д. Ф. Масловского, который в 1886–1891 годах опубликовал трехтомный труд «Русская армия в Семилетнюю войну». В этой работе, удостоенной Макарьевской премии, автор писал о развороте армии под командованием П. С. Салтыкова незадолго до битвы15. Немецкий историк И. В. Архенгольц в «Истории Семилетней войны», впервые опубликованной в 1788 году, этот вопрос обошел стороной, упомянув только большие обходы прусской армии и глубокие пропасти перед фронтом16. Французский исследователь А. Рамбо, занимавшийся изучением истории России, в своем труде 1895 года также писал о круговом маневре русских [13: 181]. Данная точка зрения сохранялась в историографической традиции и в последующее время. Известный советский специалист в области военной истории Л. Г. Бескровный также придерживался этого мнения [3: 278].
В полемике 1909 года по вопросу расположения союзных войск А. К. Баиову не удалось убедить А. А. Свечина, который с иронией отмечал, что «при такой разработке истории, вероятно, мы повторяли бы ее к 200, 300, 1000-летнему юбилею»17. Он надеялся на появление «хотя бы к 200-летнему юбилею оригинального труда по Кунерсдорфу»18. В этой дискуссии приняли участие и другие военные историки, что свидетельствовало об исследовательском интересе к данной проблематике.
После того как отгремели полтавские торжества, в декабре 1909 года победа при Кунерсдорфе вспоминалась в контексте 200-летия со дня рождения Елизаветы Петровны19. Кроме того, продолжились изучение и публикация материалов о битве20. В апреле 1912 года предметы и свидетельства периода Семилетней войны стали достоянием грандиозной выставки «Ломоносов и елизаветинское время». Помимо военных трофеев, захваченных у пруссаков, посетители могли увидеть монеты21, документы, карты, портреты П. С. Салтыкова, С. Ф. Апраксина, В. В. Фермора, а также гравюры с изображением формы войск22.
К наследию Семилетней войны неоднократно обращались в годы мирового конфликта23.
При разработке в сентябре 1914 года концепции выставки «Боевые трофеи нашей армии» планировалось обустроить отдельный зал с экспонатами из Артиллерийского исторического музея, в котором хранились более 200 знамен противника, мундир и гардероб прусского короля Фридриха II24. Таким образом, несмотря на то что со стороны государственной власти 150-летний юбилей битвы при Кунерсдорфе был проигнорирован, наблюдался всплеск внимания к этому событию в контексте празднования других сюжетов, в особенности после начала Первой мировой войны. По мнению А. Ассман, игнорирование как техника забвения не исключала возможности возвращения в центр внимания предмета в том числе и после долгого пребывания в тени [2: 22]. Соглашаясь с данной точкой зрения, необходимо отметить, что в начале ХХ столетия потенциал символического значения битвы при Кунерсдор-фе не был использован. Только война с Германией позволила переосмыслить роль этой победы и вернуть данное событие на непродолжительное время в пространство памяти Российской империи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, необходимо отметить, что коммеморативный бум начала ХХ столетия не затронул 150-летие сражения под Гросс-Егерсдорфом, Кунерсдорфом и другие победы русской армии в ходе Семилетней войны. Несмотря на повышенный интерес со стороны государства и общества к викториальной тематике, полуторавековой юбилей Семилетней войны находился на периферии пространства памяти. В символической политике начала ХХ столетия государство сделало акцент на увековечение событий, наиболее значимых для истории государства и армии. В то же время избранные коммеморативные поводы должны были олицетворять величие самодержавного строя и (или) героизм населения.
Несмотря на отсутствие юбилейных торжеств в 1907–1910 годах, полного забвения Семилетней войны не произошло благодаря деятельности других акторов политики памяти. Битва при Кунерсдорфе вспоминалась на страницах периодической печати, а также в контексте празднования других памятных годовщин.
Причины периферийного положения Семилетней войны в пространстве памяти в рассматриваемый период можно объяснить рядом факторов. Среди них необходимо отметить удаленность территорий, на которых разворачивались основные события военного противостояния, что делало их малозначимыми для общественного сознания. Кроме того, отсутствие сложившихся традиций вспоминания данного конфликта на протяжении длительного времени не позволяло ему занять достойное место в национальном нарративе. Не менее значимой причиной являлся тот факт, что в 1909 году осуществлялось празднование 200-летия Полтавской битвы, 100-летия присоединения Финляндии и 50-летия взятия Гуниба, поэтому финансирование еще одного мероприятия являлось весьма проблематичным.
Определенную роль сыграла и внешнеполитическая обстановка рассматриваемого периода. Отношения с Германией, несмотря на некоторое охлаждение, оставались стабильными, что не способствовало актуализации памяти о конфликте с Пруссией, имеющем неоднозначные оценки. Подобная стратегия российского правительства занять позицию нейтралитета в символической политике прослеживалась и по отношению к Франции при праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 года. Только после начала мирового конфликта обращение к сюжетам Семилетней войны получило новый импульс, что свидетельствовало не о забвении, а о воздействии фактора отложенной памяти.