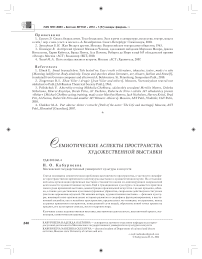Семиотические аспекты пространства художественной выставки
Автор: Кабурнеева Надежда Олеговна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена семиотическим проблемам выставочного пространства, в частности специфике пространственно-временного континуума выставки в художественном музее. На сегодняшний день организация временных выставок становится одним из доминирующих направлений деятельности художественных музеев. Ещё в традиционных культурах складывается практика своего рода временной выставки, демонстрации произведений искусства с целью продажи, обмена, а также для достижения культовых (храмовое убранство, сакральное действо) или статусных (светские церемониалы) целей. По мнению автора, художественная выставка - феномен культуры, имеющий свою оригинальную историю развития и специфику функционирования, а выставочный ансамбль, как и музейное пространство, предполагает экс-позицию, отстранение, выход за рамки привычного восприятия, повседневной сути вещей, обретение новой точки зрения на предмет, его культурные смыслы, место в картине мира.
Художественная выставка, выставочная деятельность, выставочный проект, экспозиция, семиотические границы
Короткий адрес: https://sciup.org/14489669
IDR: 14489669 | УДК: 003:061.4
Текст научной статьи Семиотические аспекты пространства художественной выставки
246 КАБУРНЕЕВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА — аспирантка заочного отделения кафедры культурно досуговой деятельности Московского государственного университета культуры и искусств KABURNEEVA NADEZHDA OLEGOVNA — doctoral student of Department of cultural and leisure activities, Moscow state University of culture and arts
N. O. Kaburneeva
Moscow State University of Culture and Arts, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Bibliotechnaya str., 7, Khimki city, Moscow region, Russian Federation, 141406
SEMIOTIC ASPECTS OF SPACE ART EXHIBITION
Художественная выставка — феномен культуры, имеющий свою оригинальную историю развития и специфику функционирования. Ещё в традиционных культурах складывается практика своего рода временной выставки, демонстрации произведений искусства с целью продажи, обмена, а также для достижения культовых (храмовое убранство, сакральное действо) или статусных (светские церемониалы) целей.
На рубеже XVII—XVIII веков художественная выставка становится неотъемлемой формой европейской культуры. Эта окончательная институализация выставки как официального учреждения, осуществляющего регулярный показ и компетентную оценку произведений искусства, формирующего общественное мнение, явилась важным этапом в становлении выставочной деятельности. Постепенно обмен выставками становится одной из важнейших сторон музейной коммуникации; в форме выставки музей осуществляет популяризацию современного искусства и многое другое. В художественной культуре ХХ столетия выставка, наряду с музеем, сформировалась как особое пространство порождения смысла, своеобразного «посвящения», «инициации» в искусство.
На сегодняшний день, как показывает отечественная и зарубежная практика, организация временных выставок становится одним из доминирующих направлений деятельности художественных музеев. Об этом свидетельствует количество ежегодно подготавливаемых выставочных проектов. Так, например, Эрмитаж ежегодно организует около 100 выставочных проектов за рубежом и в музеях России, треть которых демонстрируются в самом музее. Борис Гройс пишет: «Любая большая, амбициозная выставка, организуемая сегодня, претендует на то, чтобы открыть возможность для нового взгляда на историю искусства. <…> Все эти выставки суть маленькие временные музеи» [4, с. 35—36].
Действительно, выставочный ансамбль, как и музейное пространство, предполагает экс-позицию, отстранение, выход за рамки привычного восприятия, повседневной сути вещей, обретение новой точки зрения на предмет, его культурные смыслы, место в картине мира. Объект зачастую изымается из одного контекста и переводится в другой. Экспозиция в музейном и выставочном пространстве работает как своего рода рама (рамка, граница), определяющая пространство художественного произведения. Характеризуя значение рамы в композиции художественного текста, Ю. М. Лотман пи- шет: «Рама в картине, рампа в театре, начало или конец литературного или музыкального произведения, поверхности, отграничивающие скульптуру или художественное сооружение от художественно выключенного из него пространства, — все это различные формы общей закономерности искусства: произведение представляет собой конечную модель бесконечного мира» [7, с. 204]. Рама, определяющая границы художественного мира, позволяет в художественном тексте конечными средствами моделировать безграничный объект. Выставка подобно художественному тексту формирует пространственно-временную модель соотнесения человека с миром, модель его методов освоения реальности и самосознания. «Рама» музейного здания, экспозиционное обрамление — это та семиотическая граница, которая позволяет появиться экспонату, экспозиционной концепции. Одни и те же вещи обретают различное значение в зависимости от того, где проведена черта, ограничивающая выставочный текст от «нетекста». Находящаяся по внешнюю сторону черты вещь есть реальный предмет повседневности. Привнесённый за черту этот предмет обретает статус экспоната, получая характерное для нового контекста значение, иногда полностью или частично утрачивая свои повседневные смыслы. По верному определению, В. Г. Арсланова, «стены здания, где выставляются произведения искусства, обрели почти магическую художественную силу ра мы» [1, с. 508]. С этого времени любой предмет, сколь бы далёк он не был от классического понимания произведения искусства, перемещённый в раму художественного музея или выставочного зала, осмысляется как искусство. Контекст музея или выставки в современной культуре иногда становится единственной формой видения, присутствия произведения искусства мире.
Семиотическая ситуация усложняется, когда экспонат — собственно произведение искусства, которое само есть текст, вопло- щённая художественными средствами «конечная модель бесконечного мира». Экспозиционный текст в данном случае строится как сложная совокупность художественных текстов. Согласно семиотической теории, в отличие от нейтрального построения, включение текста в текст базируется на их переплетении: каждый элемент в определённом отношении является и обрамляющим, и обрамленным текстом. «Такое построение, прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст приобретает черты повышенной условности, подчёркивается его игровой характер: ироничный, пародийный, театральный и т.д. смысл» [1, с. 431]. Это специфическое построение — «текст в тексте» — есть факт авторского проекта и зрительского восприятия текста. То есть в выставочном ансамбле момент переключения, игры границ текстов должен быть заложен в экспозиционном замысле (экспозиционером, художником, куратором выставки) и/или актуализирован в зрительском восприятии. Тогда возникает ситуация генерирования и приращения смысла.
В истории культуры эта ситуация неоднократно экспозиционно обыгрывалась с разнообразными вариациями и смыслами. В XIX веке в залах музея иногда воссоздавались детали для иллюстрации той исторической эпохи, к которой относились выставленные произведения, то есть осознанно имитировался «естественный» (уже утраченный к тому времени) контекст, и, таким образом, нивелировался акт музейного обрамления. На авангардистских выставках нередко холсты без рам и подрамников прибивались к стене, активно заполняя всю её поверхность от пола до потолка, и сопровождались большими листами бумаги с надписями и номерами. Таким образом, вся выставочная стена, экспозиционная площадь в целом трактовались как одно большое картинное поле-коллаж. К. Малевич писал: «Полагаю, стены музея есть плоскости, на которых должны размещаться произведе- ния в таком порядке, как размещается композиция форм на живописной плоскости» [8, с. 109]. Так в самом подходе к организации выставок сказалась идеологическая борьба против музея и музейного искусства, которую вёл русский авангард. В ХХ веке были реализованы многие другие проекты, напротив, направленные на то, чтобы «снять» ситуацию взаимного перекодирования текста экспозиции и текста произведения, обеспечить концентрацию внимания на отдельном произведении и максимально компенсировать ущербность его музейного восприятия. Концепция «экспонат в фокусе» предполагала либо разгрузку экспозиционной плоскости стены («стена — картина», «экспонат — зал»), либо ограничение поля зрения посетителя, посредством направленного света, акцентов цвета, сложной конфигурации пространства [5]. Можно сказать, что выставка формирует воображаемое, иллюзорное, в каком-то смысле мифологизированное пространство-время, в котором сознанию зрителя предлагаются особые правила восприятия, мышления.
Организация выставки в пространстве художественного музея вполне может быть осмыслена как семиотический конструкт «текст в тексте». Сама художественная выставка — сложно устроенный текст, образуемый многообразными переплетениями текстов художественных экспонатов, — включается в текст музея. Введение внешнего текста в имманентный мир данного текста всегда имеет огромное значение. «В структурном смысловом поле текста вводимый в него внешний текст трансформируется, образуя новое сообщение. Сложность и многофункциональность участвующих в текстовом взаимодействии компонентов приводит к известной непредсказуемости той трансформации, которой подвергается вводимый текст. Однако трансформируется не только он — изменяется вся семиотическая ситуация внутри того текстового мира, в который он вводится» [6, с. 429].
Представление художником работ в про- странстве музея становится решающим актом осмысления себя «на фоне» истории искусства и обретения в современной художественной ситуации. Например, показательна история организации персональной выставки К. С. Малевича в Государственной Третьяковской галерее в 1929 году. Готовя её, Малевич усердно выстраивает «новую хронологию» собственного творчества. Иллюстрируя концепцию «от импрессионизма к супрематизму», он в сжатые сроки пишет большую часть представленных на выставке работ. Одновременно создаются супрематические, постсупрематические полотна и имитируется «ранний» импрессионизм, «пройденные» «ван-гогизм» и «сезанизм». «Теоретик Малевич выступил как куратор художника Малевича — сочинив концепцию, которую он считал правильной концепцией творческой биографии и которую хотел внедрить в “правильном” виде в историю искусств, он же и написал все нужные ему картины по собственному сценарию» [10].
Выставка изменяет и всю семиотическую ситуацию внутри того текстового мира, в который она вводится, — мира музея. Каждый выставочный проект имеет определённую цель, направлен на конкретную аудиторию, но он всегда невольно приводит к пересмотру «границ музея», его базовых устоев. Так, например, в советский период периодические выставки русского авангарда в Государственном Русском музее высветили лакуны в чётко соответствовавшей официальному образцу постоянной экспозиции и способствовали введению в её состав работ Петрова-Водкина, Кареева, Куприна, а позднее Малевича и Филонова.
Если привести более близкий по времени пример, то можно вспомнить организованную тем же Русским музеем в конце августа 2001 года выставку «Абсолютный штиль», которая представила ретроспективу творчества современного немецкого художника Юргена Клауке. Экспозиция включала датируемые 1970—1990-ми годами работы и разворачивалась как своеобразная компактная хрестоматия contemporary art, позволявшая российскому зрителю в достаточной мере познакомиться с тенденциями современного искусства фотографии, перформансом, боди-артом, инсталляцией, ме-диа-артом, концептуальным искусством, то есть всем тем, из чего складывается «межвидовой акционизм» (термин Питера Вайбе-ля [см. : 3]). Выставку отличала безупречная развеска, строго выдерживалась хронологическая логика экспозиции, идущая от документальных фотофиксаций перформансов 1970-х на первом этаже, выше, на второй — к магическим опытам мира постонтологического 80—90-х годов ХХ века. Выставка строилась на подчёркнутом диссонансе музейного обрамления и шокирующего содержания фотографий. Причём максимально усиленный в начале экспозиции, этот конфликт постепенно нивелировался. Завершающие экспозицию залы, где были представлены фотосерии, исследующие жизнь повседневных предметов, были выдержаны в строгом, в чем-то мистическом петербургском духе. Выставка сумела не только реализовать просветительскую миссию, но и передала в полной мере революционный дух, столь характерный для западной художественной жизни 1970-х годов.
Следует упомянуть и другое направление современной выставочной деятельности — тематические проекты. Здесь, как правило, основа не привнесённый извне, новый, «чужой» материал, а собственная коллекция, переигранная по-новому, с выявлени- ем иных содержательных аспектов. А. Боровский так прокомментировал этот импульс современных музеев: «Каждый раз делай новый показ, крои из того, что есть новую выставку. <…> Главное — музеи современного искусства не замкнулись в сознании величия своей современности, а музеи с хронологическими многообразными коллекциями не замкнулись в сознании величия своей историчности» [2, с. 40]. Основная работа в таких проектах ведётся над построением контекста, задаваемого тематикой выставки, в который произведение погружается. В ходе этой работы часто решаются сложнейшие технические, художественные и даже режиссёрские задачи, интерьер кардинально меняется, структурно переформируется, насыщается оригинальным светом, цветом, а порой звуком и запахом. То есть выставка разворачивается как акция по актуальному обрамлению известных образов, по проведению новых границ в традиционном пространстве, возведению новых пространств смысла. По существу, объектом выставки становится незаполненное пространство музея, то пространство между произведениями, которое их разделяет, классифицирует, ограничивает, даёт им место. Выставка не просто занимает некоторый участок, но и захватывает саму возможность пространства, пытается утвердить новые пороги пространственного чувства и смысловой насыщенности в музее, воссоздавая когда-то утраченные смыслы и качества этого пространства, устанавливая новую точку зрения.
Список литературы Семиотические аспекты пространства художественной выставки
- Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. Москва: Академический Проект, 2003.
- Боровский А. Д. Современное искусство и музей//Искусство ХХ века: Итоги столетия: [избранные материалы конференции]. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003.
- Вайбель П. Искусство Клауке: подрывные стратегии телесности и перформативные акты. От кризиса репрезентации к кризису тела//Новый мир искусства. 2001. № 3. Приложение. С. 1-8.
- Гройс Б. Создание видимости//Гройс Б. Комментарии к искусству. Москва: Художественный журнал, 2003.
- Калугина Т. П. Экспонат в фокусе//Художественный музей как феномен культуры. Санкт-Петербург: Петрополис, 2001. С. 103-115.
- Лотман Ю. М. Текст в тексте//Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2000.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста//Лотман Ю. М. Об искусстве. Санкт-Петербург: Ис кус ст во-СПБ, 2000.
- Малевич К. Ось цвета и обьёма//Малевич К. С. Собр. соч.: в 5 т. Москва: Гилея, 1995. Т. 1.
- Торшина Л. Е. «Вокруг выставки». Временная выставка как культурно-образовательная акция//Управление музеями: Музейная деятельность в XXI веке. Санкт-Петербург: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2005. С. 46-47.
- Шатских А. Малевич -куратор Малевича//Русский авангард: проблемы презентации и интерпретации. Санкт-Петербург: Palace Editions, 2001. С. 149-157.