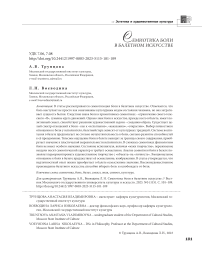Семиотика боли в балетном искусстве
Автор: Трунцова А.В., Воеводина Л.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика и художественная культура
Статья в выпуске: 5 (115), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семиотизация боли в балетном искусстве. Отмечается, что боль выступает не просто как означивание культурным кодом состояния человека, но она затрагивает сущность бытия. Следствие знака боли в примитивных семиотиках ограничение своего телесного «Я», сужение круга движений. Однако знак боли в искусстве, прежде всего в балете, имеет позитивный смысл, способствует решению художественной задачи - созданию образа. Существует целый спектр отношений к боли как к «испытанию», «наказанию», «открытию». Выбор личностного отношения к боли у исполнителя, балетмейстера зависит от культурных традиций. Система воспитания в балете предполагает не столько нечувствительность к боли, сколько развитие способностей к её преодолению. Телесное ощущение боли в балете выходит за границы своего содержания, приобретает значение в пластической выразительности исполнителя. В сложных семиотиках физиологизм боли не имеет особого значения. Состояние исполнителя, включая «муки творчества», переживание неудачи носит семиотический характер и требует осмысления. Анализ семиотики боли в балете позволяет переориентировать художественное творчество с «объекта» на «личность». Эмоциональное отношение к боли в балете предшествует её осмыслению, изображению. В статье утверждается, что надличностный опыт жизни приобретает в балете осмысленное значение. Высокохудожественное произведение балетного искусства способно вбирать боль и освобождать от боли.
Семиотика, боль, балет, смысл, знак, символ, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/144162955
IDR: 144162955 | УДК: 7.06, | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-5115-101-109
Текст научной статьи Семиотика боли в балетном искусстве
По мере расширения сферы культурологии как современной научной дисциплины в нее органично включаются исследования чувственного, телесного опыта человека, сложных и зачастую плохо поддающихся вербализации переживаний и ощущений, в частности, связанных с таким феноменом, как переживание боли.
Боль как объект изучения рассматривалась в экзистенциализме и феноменологии, к ней проявляла живой интерес постмодернистская философия, болевой опыт как естественная физиологическая реакция тела на раздражитель или симптом заболеваний исследовался в рамках медицинской науки. Как правило, боль связывается с тяжелыми человеческими страданиями, которые воспринимаются индивидом в рамках имеющегося культурного и социального опыта.
Семиотическая методология исследования боли позволяет вывести ее из культурнобессознательного в сферу культурного сознания и самосознания современного человека. Душевная и телесная боль непосредственно или опосредовано изображается в произведениях художественной литературы и различных видах искусства, в том числе и балете.
В культуре исторически формируется концептосфера, в состав которой входит и концепт «боль» вместе « … с понятиями «болеть», «болезнь», «больной», «больница» и других дериватов, с одной стороны, воссоз- дает в обыденном сознании носителей языка ассоциативную связь с языческими компонентами о боли как о привнесённом в организм зле. С другой стороны, ощущение боли, будучи патологическим, отражает ненормативную сторону бытия, а, следовательно, и требует необычного понимания. В русской наивной картине мира концепт «боль» в силу особенностей культуры приобретает знаковость именно за счёт понимания физической и душевной боли как взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих феноменов» [8, с. 266].
Семиотика балета сохранила генетические функциональные связи с древними сакральными семиотиками, в архаических культурах практиковались ритуальные танцы и магическое снятие боли под воздействием силы внушения, которая шла от жреца, шамана и т. п. В ритуальных похоронных танцах недостаточность психологической боли компенсировалась изображением переживаний преувеличенной физической боли. Участники рвали на себе волосы, царапали тело и т. п. В античности также боль героя в искусстве изображалась с помощью изменения его осанки и позы [1, с. 160].
Следствие знака боли в примитивных семиотиках – это ограничение телесного «Я», сужение круга движений. Однако знак боли в искусстве, прежде всего в балете, имеет позитивный смысл, способствует решению художественной задачи – созданию образа. Использование семиотического аппарата позволяет по-новому взглянуть на проблему знаков боли в хореографическом искусстве. Семиотика боли в балете носит многоуровневый характер. Нулевой знак – отсутствие боли. Знак первого уровня – фиксация (с разными оттенками) собственной боли балерины. Знак второго уровня – изображение боли, испытываемой персонажами. Знак третьего уровня – перекодированные знаки боли из других текстов, литературных, музыкальных и др. Знак четвёртого уровня – мифологические знаки боли, принятые в культуре. Следует отметить, что на снятие и ослабление боли влияет переживание прекрасного. Особую роль играет освещение, цвет декораций и костюмов исполнителей, музыкальное сопровождение [3], [11]. А. Ш. Тхостов предлагает включить в семиотическую схему тела код тела – чувственную ткань и телесный конструкт – и миф о боли, содержащий представление о боли в определённой культуре [15, с. 105].
Выбор личностного отношения к боли у исполнителя, балетмейстера зависит от культурных традиций. Система воспитания в балете предполагает не столько нечувствительность к боли, сколько развитие способностей к её преодолению. Телесное ощущение боли в балете выходит за границы своего содержания, приобретает значение в пластической выразительности исполнителя. В сложных семиотиках физиологизм боли не имеет особого значения.
Семиотический модус боли в балете заключается в страдании, основой которого является переживание физической (телесной) и психологической (душевной) боли, вызванной самыми разными причинами. Душевная боль, переживаемая балериной, есть неудовлетворённость какой-либо значимой потребностью, подчиняющей себе на время всю её активность. Данному состоянию сопутствуют негативные реакции, имеющие знаковый характер: разочарование, уныние, печаль, сожаление. Душевная боль танцовщицы может быть вызвана двумя основными причинами: недостаточностью совершенства исполнения роли или утратой достигнутого мастерства. Стремление к совершенствованию исполнительского мастерства способствует достижению профессиональной зрелости. Даже если балерина не сразу достигает его, все же есть шанс максимального приближения к нему при кропотливой работе над ролью. И в этот момент подключается семиотическая проекция в виде знака надежды.
В примитивных семиотиках боль – сигнал опасности. Телесная боль балерины возникает постфактум. Душевную боль танцовщица способна испытывать заранее. Она усиливается знаками-эмоциями: тревогой, опасением, волнением. Главная семиотическая характеристика боли – её непреложность. На неё невозможно не обратить внимания, внутренне отделиться от неё. В ходе эволюции физическая боль возникла раньше, а душевная боль является её модифицированным знаком [2, с. 142]. Тоска для балерины есть душевная боль в самом непосредственном виде. Она представляет собой погружение в переживание боли при отсутствии мысли о возможных переменах.
Разнообразие видов телесной боли отражает многообразие ситуаций в мире танца. Общая семиотическая модальность боли – неприятность, непереносимость. Частая семиотическая модальность боли: колющая, режущая, тянущая, рвущая, пульсирующая, приступообразная [2, с. 145].
Телесную боль в балете условно можно классифицировать таким образом:
-
1. Боль, испытываемая от разработки подвижности суставов, растяжки мышц и связок. Этот вид боли часто становится приятным. Этот процесс связан с тем, что каждодневное усовершенствование своих профессиональных данных наилучшем образом демонстрирует самому себе, что ты идёшь в правильном направлении.
-
2. Боль, связанная с укреплением, «закачкой» мышц. В отдельных случаях такая боль может быть психосоматич-на и объясняться психологическим перенапряжением или душевной болью.
-
3. Боль, переживаемая в результате травм. Такая боль не всегда терпима и сопровождается психологической болью, связанной с вынужденным замедлением темпа работы.
Выдающиеся деятели балетного искусства освещали тему переживания боли в балетном искусстве. В частности, М. М. Плисецкая в автобиографическом тексте посвятила ей целую главу [10, с. 129]. М. Э Лиепа также отмечал необходимость для танцора работы над ролью, которая связана с физическими перегрузками и ежедневными усилиями: «Почти 35 лет, около 25000 часов экзерсиса, почти столько же часов привычной боли, без этого не мыслима наша профессия» [6, с. 6–7].
Зачастую танцовщик со временем до такой степени привыкает к боли, что она становится для него нулевым знаком; нередко это приводит к трагедиям. Например, танцовщик Большого театра В. А. Рябцев в 1945 году умер на сцене вследствие сердечного приступа во время исполнения мазурки из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». Платья танцовщиц Э. Ливри и М. К. Андерсон загорелись во время спектакля. Балерины некоторое время продолжали исполнять свою партию, прежде чем обнаружили себя горящими. Такое принятие собственной боли как нулевого знака и обострённое переживание душевной боли героя зачастую приводило к физическим и психическим заболеваниям артистов балета. Можно вспомнить жизненный путь таких артистов балета, как О. А. Спесивцева, В. Ф. Нижинский, В. И. Стуколкин.
Очевидно, что телесная боль балерины непосредственна, а душевная – опосредована. В гуманитарных науках продолжается спор по поводу того, является ли боль ощущением или эмоцией. По нашему мнению, боль для балерины это и ощущение, и переживаемая эмоция. В профессии балерины все виды боли как знаки присутствуют постоянно, поэтому пониженная чувствительность к телесной боли является признаком профессионализма. Сложность и яркость переживания телесной боли – это еще один признак профессионализма балерины. Изображение на сцене боли для нее эстетически осмысленно. В каждом акте боли у балерины есть два модуса: отношение к самой по себе боли и отношение к причине боли. По сложившейся традиции многие известные педагоги-хореографы пишут о нагрузках, но не упоминают слово «боль» [11, с. 20]. Характерный пример тому воспоминания С. С. Холфиной, она присутствовала на выпускном экзамене по классическому танцу, который сдавала Н. И. Бессмертнова. Забыв о боли, она крутила 48 фуэте в быстром темпе, не сходя с места. Такое до неё могла сделать лишь Е. В. Гельцер [16, с. 231].
Необходимо учитывать гендерное различие переживания и выражение боли в искусстве балета. Балет, начиная с XV до конца XVIII века, был преимущественно мужским занятием. С XIX века балет считается женским занятием. Выражение эмоций – это преимущественно женский знак. У мальчиков, мужчин, занимающихся балетом, есть скрытое ощущение психологической боли, которая сильнее мышечной боли от физических нагрузок. При этом им необходимо постоянно доказывать свою маскулинную сущность [9, с. 138].
Ожидание боли от работы на пуантах – распространённое явление среди будущих и действующих балерин. При этом боль считается терпимой, поскольку семантически связана с красотой и грацией [9, с. 144]. Мозоли и воспалённые пальцы ног балерины являются нулевым знаком для большинства публики. Сравнение количества травм для балерин становится своего рода ритуальным поведением. В литературе по гендерной культуре утверждается, что женщины легче переносят боль, чем мужчины. С другой стороны, женская боль часто считается преувеличенной и не всегда воспринимается серьёзно. Ба- лерина всё время работает на грани болевого порога, пытаясь воплотить идеалы красоты. Благодаря боли она достигает профессиональной формы. Как справедливо утверждает А. Пикард, ноги обычно не выворачиваются наружу, шея не удлиняется от природы, не всякое тело – стройное. Всё это достигается в балете через боль [9, с. 149].
Для балерины боль приобретает дополнительный семиотический модус: это знак того, что в танце всё сделано правильно. Пикард выводит формулу: боль и страдания – артистическое чувство тела – героический статус. Два тела балерины, реальное и воображаемое, постоянно взаимодействуют. Пикард вводит понятия «хорошая» и «плохая» боль. Балерина может испытывать удовольствие от боли, которое не имеет ничего общего с мазохизмом. Боль и удовольствие – два противоположных знака, воплощающие отношение исполнителей и культурные формы балета.
Состояние исполнителя, включая «муки творчества», переживание неудачи имеет семиотическое оформление. Анализ семиотики боли в балете позволяет переориентировать художественное творчество с «объекта» на «личность». Невыносимость боли может приводить к уходу балерины из профессии. Глубокое переживание чужой боли способно свести балерину с ума (О. А. Спесивцева). Интерес представляют различные трактовки образа Жизели с позиции передачи психологической боли. Д. А. Черкасский отмечает, что Жизель в исполнении И. А. Колпаковой простодушна. Её мир не рушится, доставляя тем самым «нестерпимую боль» [17, с. 177]. Жизель Т. П. Карсавиной переживает не одну какую-то боль, а разные оттенки боли. Г. С. Уланова в партии Жизели указывает на причину боли – столкновение с жестоким миром.
Учитывая, что не существует систематизации балетных спектаклей по принципу изображения боли героя, можно предложить следующую классификацию:
-
1. Балеты, посвящённые правителям («Иван Грозный», «Спартак»). В них
-
2. Балеты, посвящённые войне («Война и мир», «Воинственный танец»). Мужчины исполняют героические партии. По сюжету они часто испытывают физическую боль. Балеринам достаются партии невест, жён, сестёр, матерей, дожидающихся своих близких.
-
3. Балеты, в которых по сюжету изображается акт глубочайшей утраты («Ромео и Джульетта», «Баядерка»). Балеринам предоставляются главные партии, связанные с передачей психологической боли.
-
4. Балеты, где представлена тема жертвенной боли («Жанна д `Арк»).
-
5. Балеты, представляющие психологическую боль отверженного одинокого человека. («Идиот»).
-
6. Балетные номера, воплощающие народную боль и демонстрирующие нечеловеческую жестокость («Колокола Хатыни»).
-
7. Балеты, посвящённые страданию влюблённых («Лебединое озеро», «Жизель»).
правитель выступает источником коллективной боли. Главные партии отданы мужчинам. Балеринам отводится роль персонажей, передающих психологическую боль.
Знаки боли, представленные в балетных партиях, многообразны. К ним относятся, например:
-
– боль обманутых надежд («Дама с собачкой», «Сильфида», «Эсмеральда»);
-
– боль-тоска по Родине («Кавказский пленник»);
-
– боль, смешанная с раскаяньем (миниатюра «Кающаяся Магдалина», «Зимняя сказка»);
-
– боль от расставания («Орфей и Эври-дика»).
В семиотике балета прослеживается взаимосвязь между знаком любви и знаком боли. Романтическую любовь на расстоянии передаёт О. А. Калмыкова в партии фон Мекк («Чайковский», постановка Б. Я. Эфман). Лю- бовь к Мастеру, перемешанную с горечью бытия, удачно демонстрирует И. В. Зырянова. Ассоль любит предназначенного ей юношу, переживая боль от насмешек окружающих.
Чувства, переживание душевной боли героинь выражается у балерины в особых культурных формах: позах, жестах, линиях, характере движений, их окрашенности. Как правило, душевное страдание передаётся через сброшенные кисти рук, «оплывшую», несколько отклонившуюся от канона позу, сжатие тела внутрь, что условно напоминает позу зародыша в утробе матери. Эти позы имеют двойственный семиотический статус, являясь частью переживания, и в качестве отчуждённой его части, становятся составляющей содержания балетного искусства. При этом балерина способна сопоставить значимость боли со значимостью ситуации. Принять боль помогают волевые качества и опережающее отображение ситуации на сцене. Балерина оказывается не столько погруженной в боль, сколько в определённом плане становится «выше» боли. Рассуждения о боли в балете по-своему банальны. Эта боль несравнима с другими видами боли, которые случаются во время катастроф. Но именно такая боль формирует балетное тело. В основе подготовки балерины лежит состояние «исчезающего» тела. Исполнительница бессознательно повторяет движения. Состояние «отсутствующего» тела невозможно, когда появляется физическая боль [9, с. 113].
Балет – это культурная активность, которую продвигают вперёд влиятельные социальные группы. Боль для них не имеет большого значения. Исполнители, балерины – это молодые люди, принадлежащие, чаще всего, к среднему классу. Они принимают боль как часть жестокого мира. Для балерин профессия становится способом вхождения в мужской мир.
Направленность сознания исполнителя и зрителя может проявляться в несовпадении смыслов и значений боли. Зритель может смотреть изображение боли на балетной сцене и утверждать: «Не верю!». При этом знак боли превращается в нулевой знак, а процесс коммуникации останавливается. Неспособность исполнителя выразить чужую боль как свою собственную порождает ещё более сильное противоречие: «Я не верю себе».
Эстетическим смыслом боли может быть наделено действие балетного исполнителя, но не только оно. Этот смысл имеет мотивы, обстоятельства действие, его цели. Значение боли включается в систему мотивации исполнителя, а затем зрителей, поэтому наполняется различными смыслами. До возникновения балета, в других видах искусства, известно моление о боли как об искуплении греха и средстве достижения вечного блаженства. Исполнители, занятые в спектакле на ветхозаветную тему, должны учитывать, что для библейского мышления, всё тело есть боль. Она воспринимается как бы изнутри.
В массовой культуре в условиях новой религиозности боль даёт возможность избежать нежелательной деятельности. Человек, испытывающий боль, рассчитывает на сочувствие и на продолжение, развитие коммуникативных связей. Сведения о боли становятся публичными. И. М. Лиепа полагает, что современный человек чувствует свою беспомощность и зависимость от боли [5, с. 33].
В современном балете, отображающем жизнь человека в начале XXI века, идёт интуитивный поиск выражения нового отношения к боли. В балетном репертуаре на выбор изображения боли всё большее влияние оказывает эстетический критерий. Отбираются сюжеты, где боль окружается драматическим или романтическим ореолом, и почти никогда – неэстетические виды боли, нарушающие коммуникативные связи и эмпатию к страдающему лицу. Поскольку боль изображается эстетически, то конкретные признаки не подтверждают её. Смертельно раненый герой не сразу умирает на сцене, что противоречит реальности. М. М. Михайлов справедливо подчёркивает, что в балете «Красный мак» главная героиня принимает выстрел, предназначенный капитану; от нестерпимой боли, можно потерять сознание, но тут в банкетный зал врываются китайские партизаны, окружают умирающую Тао Хоа; как символ борьбы она передаёт им цветок красного мака. Такой финал спектакля кажется надуманным [7, с. 79].
В театрально-танцевальных постановках средневековых мистерий боль демонизировалась. В балетах XIX века боль романтизировалась, изображалась в виде обмороков и нервических приступов. В современных балетах отдаётся предпочтение сердечной боли, «до разрыва аорты». Позитивный смысл приобретает боль при ранении, так как при этом она героизирует персонажа. Преодоление боли, её изображение в балете ставит экзистенциальный вопрос: «Для чего?». Вопрос кратковременности и бессмысленности жизни в этой ситуации снимается средствами пластической выразительности.
Свобода выражения боли в европейской культуре связана с её эстетической формой. Боль активно демонстрируется. В восточной культуре внешнее проявление боли неприемлемо. Итальянские и французские исполнители в силу своего культурного кода аффективно переживают даже небольшие болевые ощущения. Немецкие исполнители, воспитанные в протестантской традиции, сосредоточены на осмыслении последствий изображения боли. Исполнители, исповедующие классический католицизм, например, польского или испанского происхождения, сосредоточенны на переживании боли как таковой. Их персонажи на балетной сцене ведут себя аналогичным образом. Воспитанные в культуре стоицизма, английские и ирландские исполнители признают боль, когда она становится непереносимой. В русской культурной традиции с её фатализмом переживание боли носит сходный характер. Русский фатализм исключает случайность знака боли. Тоска – как черта национального менталитета – предваряет переживание боли. Небытие воспринимается в качестве освобождения от боли. Выдающиеся мыслители до и после Ф. М. Достоевского признавали, что русский мир переполнен болью.
Современный балет испытывает влияние постмодернистской чувствительности. А. А. Арто провозгласил «театр жестокости». Драматический путь Арто был связан с постоянной болью и роковым одиночеством. Жестокость и её проекция боль должны были, по мнению Арто, изменить исходную точку художественного творчества. В аналитическом театре такое невозможно. Сам Арто испытал влияние примитивной семиотики, увлекался магическими танцами друидов, жил среди индейцев Мексики. Прямо о балете Арто не писал, но его идеи концептуальны для балета модерна и постмодерна. Ж. Деррида в статье «Театр жестокости и завершение представления» поддержал Арто [12, с. 821].
Боль – это не просто означивание культурным кодом состояния человека, она затрагивает сущность его бытия. Суммируя, можно утверждать, что боль, присущая балетному телу, социально и культурно обусловлена. Знаки-эмоции, сопровождающие боль, являются частью семиотической системы. Знаки-эмоции исполнителей и персонажей, взаимодействуя, образуют разные семиотические системы. Формирование балетного тела начинается с преодоления физической боли, а завершается овладением психологической болью. Анализ семиотики боли в балете позволяет переориентировать художественное творчество с «объекта» на «личность». Эмоциональное отношение к боли в балете предшествует её осмыслению и изображению. Можно утверждать, что надличностный опыт жизни приобретает в балете осмысленное значение. Высокохудожественное произведение балетного искусства способно вбирать боль и освобождать человека от нее.
Список литературы Семиотика боли в балетном искусстве
- Аверинцев С. С. На перекрёстке литературных традиций // Вопросы литературы. 1973. № 2. С. 160-162.
- Бондарева С. К., Колесов Д. В. Переживание (психология, социология, семантика). Москва: МПСИ, Воронеж: МОДЭК, 2007. 160 с.
- Браэм Г. Психология цвета / пер. с нем. Москва: АСТ, Астрель, 2011. 158 с.
- Воеводина Л. Н. Мифология и культура: учебное пособие. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2002. 384 с.
- Лиепа И. М. Метод Лиепа: Философия тела. Москва: Альпина нон-фикшн, 2013. 171 с.
- Лиепа М. Э. Вчера и сегодня балета. Москва: Молодая гвардия, 1986. 190 с.
- Михайлов М. М. Молодые годы ленинградского балета. Ленинград: Искусство. 1978. 151с.
- Песоцкая И. В. Концептосфера слова «боль» в русском языке // Материалы XI Конгресса международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 2007. Т. 4. С. 265-269.
- Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство и воплощение идеала / пер. с англ. А. А. Галкин /. Харьков: Гуманитарный центр, 2018. 212 с.
- Плисецкая М. М. Я, Майя Плисецкая. Москва: Новости, 1994. 496 с
- Плисецкий А. М. Уроки классического танца. Москва: Искусство, 1967. 552 с.
- Постмодернизм. Энциклопедия / сост. и отв. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко /. Минск: Интер-прессервис; Кн. Дом, 2001. 1040 с.
- Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культура, физиология. Санкт-Петербург: Речь, 2004. 672 с.
- Тищенко П. Д. Психика и соматические процессы. Москва: Общественные науки и здравоохранение, 1987. С. 184-194.
- Тхостов А. Ш. Психология телесности. Москва: Смысл, 2002. 287 с.
- Холфина С. С. Вспоминая мастеров московского балета. Москва: Искусство, 1990. 377 с.
- Черкасский Д. А. Записки балетомана. 60 лет в партере Кировского театра. Москва: Арт, 1994. 254 с.
- Шибаева М. М. Человек культуры как ценностно-смысловая и творческая явленность имени // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 6 (68). С. 30-38.