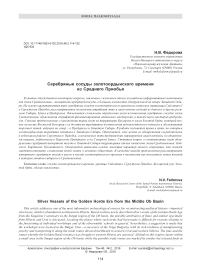Серебряные сосуды золотоордынского времени из Среднего Приобья
Автор: Федорова Н.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются некоторые вопросы, связанные с изучением одного из наиболее информативных источников для эпохи Средневековья - импортной серебряной посуды, в большом количестве обнаруженной на севере Западной Сибири. На основе характеристики трех серебряных сосудов золотоордынского времени из комплекса святилища Сайгатино I в Сургутском Приобье рассматривается возможная атрибуция этих и аналогичных изделий из данного и других регионов Сибири, Урала и Предуралья. Отмечается сложность определения мест изготовления серебряных сосудов эпохи Средневековья, объясняемая спецификой функционирования отдельных мастерских, а также школ мастеров-среброделов. Сделано предположение о нахождении таких мест на территории Булгарского улуса Золотой Орды, который возник на месте Волжской Болгарии с ее богатыми традициями изготовления художественного металла и обслуживания торговых путей, ведущих на север - в Предуралье и Западную Сибирь. В работе изучаются время и пути, по которым золотоордынская торевтика попадала в Западную Сибирь. Отмечается, что места ее обнаружения сосредоточены в небольшом районе Сургутского Приобья, а возможные пути продвижения маркируются аналогичными, но единичными вещами, найденными в Пермском Предуралье и на Северном Урале. Ставится вопрос о соответствии мест обнаружения серебряной импортной посуды в Западной Сибири территориям обских княжеств эпохи Средневековья: Кодского, Бардакова, Куноватского. Отмечается появление кладов, имеющих характер личного сокровища, что может свидетельствовать о появлении новой элиты в местных обществах. В качестве вывода предлагается рассматривать импортную серебряную посуду в целом и посуду золотоордынского времени в частности как показатель новых явлений в истории западно-сибирского Средневековья.
Сосуды золотоордынского времени, урочище сайгатино, сургутское приобье, булгарский улус золотой орды, обские княжества
Короткий адрес: https://sciup.org/145145863
IDR: 145145863 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.114-122
Текст научной статьи Серебряные сосуды золотоордынского времени из Среднего Приобья
Серебряная посуда эпохи Средневековья представляет собой один из наиболее информативных источников по истории не только стран ее производителей – развитых цивилизаций Востока и Запада Евразии, но и ее «потребителей», возможно, «вторичных» – населения Северного Прикамья и севера Западной Сибири. Б.И. Маршак отмечал: «Нет другого вида источников, который показывал бы с такой очевидностью удивительную цельность, даже компактность средневекового мира от Западной Европы до Китая и от Прикамья до Индии» [1980, с. 3]. Но для того, чтобы понять и оценить важность этого источника для Обского Севера, нам нужно было уже давно отказаться от обозначений «Приобье» и «север Западной Сибири» при указании мест находок/концентрации сосудов того или иного круга. В необходимости этого убеждают, например, сведения об обнаружении серебряной посуды золотоордынского времени в ограниченном пространстве Сургутского Приобья, в основном в урочище Сайгатино. В данном месте сосредоточено большое количество памятников эпохи Средневековья. Коллекция серебряных сосудов золотоордынского времени из Сайгатино насчитывает шесть изделий: три из погребений и три из святилища. Это очень большая коллекция. Известны еще три сосуда из Среднего Приобья: чаша из Сургутского р-на [Яковлев, 2006], чаша и поддон, по-видимому, от другой чаши, без точной локализации места находки. В Нижнем Приобье не найдено ни одного предмета золотоордынской торевтики, хотя серебряные изделия XIII–XIV вв. и более раннего времени там не редкость [Сокровища Приобья, 2003, с. 33–34, 42–51, 70–71]. Все остальные золотоордынские сосуды обнаружены в лесостепном регионе – на Иртыше и в Тарском р-не бывшей Тобольской губ. [Сокровища Приобья…, 1996, с. 200–207].
В статье приводится подробное описание трех сосудов из комплекса Сайгатинского святилища (они в той или иной степени публиковались в 1990-е гг. в редких и малодоступных сегодня изданиях). Они отреставрированы и в настоящее время хранятся в фондах Сургутского краеведческого музея*. Кро- ме того, предлагается атрибуция всех обнаруженных к настоящему времени сосудов золотоордынского времени как изделий мастеров Булгарского улуса Золотой Орды. Дается очерк процессов, в результате которых торевтика золотоордынского времени попадала в Сургутское Приобье.
История обнаружения клада
Клад из трех серебряных сосудов был найден случайно на месте Сайгатинского I святилища, расположенного на периферии Сайгатинского I могильника, в 1987 г. К сожалению, полной публикации материалов сайгатинских памятников до сих пор нет, поэтому важно восстановить точную картину условий их обнаружения. Известно, что предметы располагались один на другом: сверху вверх дном лежало блюдо, под ним также вверх дном – ложчатая чаша, под ней – кружка, причем отпаявшаяся ручка кружки находилась отдельно.
На территории к северу от урочища Сайгатино при раскопках могильников IX–X и XIII вв. у пос. Зеленый Яр (ЯНАО) найдены многочисленные изделия (серебряные украшения и принадлежности ко стю-ма, а также посуда из бронзы и серебра), некоторые из них были определенным образом организованы, например, уложены рядом с керамическим со судом. Находки интерпретированы как поминальные комплексы [Зеленый Яр…, 2005, с. 147–148, фото на цветных вклейках]. Интерпретация подкреплялась данными о ситуации на современных кладбищах обских угров, в т.ч. в пос. Зеленый Яр: после периодических посещений родственных могил жители поселка о ставляли в межмогильном пространстве различные предметы (посуду и др.), служившие дарами умершим. У обско-угорских народов запрещено забирать принесенную на кладбище или святилище вещь.
История изучения
Первая подробная публикация этих предметов и прочих серебряных сосудов, обнаруженных в пределах урочища Сайгатино, появилась в 1991 г. Это был каталог выставки в Эрмитаже, посвященной 70-летию отдела Востока. Автором вступительной статьи и каталожных описаний шести сосудов, в т.ч. трех, найденных на святилище, был М.Г. Крамаровский, определивший находки как изделия «улусного» пла- ста золотоордынского художественного металла и датировавший их XIII–XIV вв. [1991, с. 11–15]. Краткое описание отдельных вещей «сервиза» без подробной атрибуции приведено в книге «Угорское наследие: Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета» [1994, с. 124–125]. М.Г. Крамаровский в статье 78 каталога «Сокровища Приобья» упомянул чашу, подобную чаше на поддоне из погр. 31 Сайгатинского III могильника [1996, с. 208–210]. Он писал: «С сайгатинскими находками… появилась возможность представить себе процесс формирования одной из центральных групп золотоордынского серебра: в ее убранстве прослеживается замещение дальневосточных элементов исламскими» [Там же, с. 208].
Описания вещей
Кружка (чаша дорожная) (рис. 1). Серебро, выколотка, позолота, чеканка. Сосуд представляет собой кружку или, как еще называют подобные изделия, дорожную чашу с округлым дном и припаянной ручкой. Диаметр по верху 8,2 см, диаметр тулова 9,2 см, общая высота 6,3 см, длина ручки 4,3 см. Кружка была подробно описана М.Г. Крамаровским [1991, с. 25–26], здесь приводится его описание с нашими небольшими уточнениями. «Кружка с прямым вертикальным бортиком, раздутыми плечиками и округлым дном изготовлена выколоткой. Изнутри к бортику крепилась ручка. После того, как она сломалась, на это же место припаяли новую, не убрав припоя и фрагмента от старой. Новая ручка грубой работы, плоская, к нижней ее части припаяна трубочка. Вто-

Рис. 1. Кружка (чаша дорожная) из урочища Сайгатино.
рая ручка, в свою очередь, отпаялась, лежала внутри кружки*.
Орнамент выполнен с лица обводным чеканом и кольцевым пуансоном, позолочен, по-видимому, амальгамой. Вся остальная поверхность сосуда изнутри и снаружи покрыта серебряной амальгамой.
Орнамент расположен двумя зонами – по бортику и тулову. По бортику – растительный побег в виде плавно изогнутой лозы с отходящими от нее крупными полупальметтами. Фон довольно аккуратно зачека-нен кольцевым пуансоном, листья разделаны сгруппированными по дуге штрихами, нанесенными плоским чеканом. Вниз, прямо от двойной рамки бордюра, отходят три крупных медальона в форме квадрифолиев с двойной обводкой, между ними помещено два медальона такой же формы, но небольших. В крупных медальонах на фоне, зачеканенном кольцевым пуансоном, среди растительного орнамента изображены: птица, какой-то хищник, заяц. Птица с распахнутыми крыльями, большим клювом. Хищник представляет собой фантастический гибрид волка и медведя: узкая длинная морда, круглые уши, абрис фигуры волчий, задние лапы – медвежьи, длинный пушистый хвост пропущен под задней лапой, поднят вверх. Заяц стоит на задних лапах, передние подняты. Головы животных повернуты назад, перья птицы, мускулатура и шерсть животных переданы штрихами. В маленьких медальонах на пуансонном фоне – растительный побег» [Там же, с. 26].
К этому описанию добавим, что у всех персонажей на шее обозначены своеобразные ошейники. Заяц изображен неправдоподобно крупным и опознается только по характерным длинным ушам, но больше напоминает хищника. От внешнего уголка его глаза отходит плавная короткая линия. Медальон с фигурой зайца выделяется наиболее богатым растительным орнаментом.
Чаша ложчатая (рис. 2). Серебро, выколотка, позолота, чеканка. Невысокая чаша с вертикальным бортиком, 12 выпуклыми ложкáми и, вероятно, поддоном, который был утрачен еще в древности. Диаметр по верху 14,3 см, высота чаши 4 см. Край венчика слегка утолщен. На дне заметен след припоя ножки сосуда. Орнамент нанесен с лица штихелем и кольцевым пуансоном, в медальонах на ложкáх чаши рельефный узор покрыт позолотой [Там же]. Бортик чаши орнаментирован кантом, состоящим их сгруппированных по дуге штрихов, внутри и снаружи
*В настоящее время сосуд отреставрирован, ручка припаяна.

Рис. 2. Чаша ложчатая из урочища Сайгатино.
Вид снаружи ( а ) и изнутри ( б ).
этих дуг – треугольник, составленный из трех оттисков кольцевого пуансона. На тулове чаши расположены 12 выпуклых ложков, из них 6 гладкие, еще 6 с декором. Во всех шести декорированных ложкáх медальоны обведены двойной рамкой, отделяющей верхние две трети площади ложков, низ которых не орнаментирован. В трех из шести медальонах изображен растительный орнамент в виде пышного побега, который напоминает цветок, расположенный на округлом стебле и окруженный мелкими листьями. В остальных медальонах – фигуры травоядных животных. В двух медальонах – образы стоящих козлов с закинутыми на спину длинными рогами, смыкающимися с растительным побегом. У животных открытые пасти, на шее что-то вроде гривы, глаза со штрихом, отходящим от внешнего угла глаза, передняя нога приподнята, на туловищах обозначены ребра, низ живота и заднее бедро орнаментированы штрихами. В третьем медальоне изображено травоядное животное (козел?), лежащее со сложенными под животом ногами. В его открытой пасти – растительный побег, у глаза – длинный штрих, доходящий почти до шеи, вместо рогов изображены какие-то отростки, отдаленно напоминающие перья. Туловище животного орнаментировано штрихами, сгруппированными по дуге. Фон под изображением на всех медальонах зачеканен круглым пуансоном.
Блюдо (рис. 3). Серебро, выколотка, позолота, чеканка. Глубокое блюдо с отогнутым бортиком, в центре прикреплен выпуклый медальон. Диаметр 25,4 см, высота 4,4 см, ширина бортика 1,4 см. Блюдо выполнено из тонкого листа серебра, край бортика слегка утолщен. В трех местах по бортику имеются специально сделанные отверстия, возможно, здесь крепились какие-то элементы дополнительного декора. По мнению М.Г. Крамаровского, это были умбоны [Там же, с. 27]. Центральный медальон блюда укреплен на двух штифтах, в его центре имеется грубо пробитое квадратное отверстие. Орнамент на блюде и весь центральный медальон позолочены.
Центральный медальон состоит из плоского круга и укрепленной в его центре выпуклой восьмилепестковой розетки. Круг орнаментирован сгруппированными по дугам штрихами, нанесенными штихелем,

Рис. 3. Блюдо из урочища Сайгатино.
вверху и внизу дуг – сгруппированные по три отпечатки кольцевого пуансона. Таким же образом орнаментирована и розетка. Остальная часть блюда украшена узором, выполненным вращающимся инструментом типа циркуля. По бортику расположен фриз из листовидных фигур, образующих зигзагообразную линию. Сами фигуры позолочены, фон под них заполнен оттисками кольцевого пуансона.
Переход от бортика ко дну блюда задекорирован схематичными фигурами в виде пятичастных пальметт и подобных же цветов. Фигуры позолочены, обведены по краям оттисками кольцевого пуансона. Между ними расположены восьмеркообразные композиции, составленные из двух выпуклых позолоченных кружков и оттисков кольцевого пуансона.
Узор на дне блюда состоит из пяти кругов, в которые вписаны узкие розетки с шестью лепестками, соединенные трехчастными криволинейными фигурами. Фигуры и розетки позолочены, фон под ними заполнен отпечатками кольцевого пуансона. Между кругами сверху и снизу расположены трехчастные фигуры в виде листьев, скрепленных выпуклыми кружками. Фигуры позолочены, фон под них также заполнен отпечатками кольцевого пуансона.
Аналоги предметов клада
Кружка . Почти такой же по форме и оформлению сосуд был обнаружен в с. Камгорт в Чердынском р-не Пермской обл. Кружка найдена случайно ок. 1929 г., до 1959 г. хранилась в семье обнаружившей ее Е.Н. Афанасьевой. Предмет опубликован в альбоме «Чердынские клады. Сокровища археологиче ских коллекций» [2013, с. 48–50]. В этой публикации сосуд назван ковшом, место его хранения в настоящее время не указано. С кружкой из Сайгатино находку из с. Камгорт сближают технология изготовления (выколотка по серебру, золочение орнамента, применение чеканки) и форма, хотя камгортская кружка несколько более приземистая. У изделий одинаковая по форме ручка; отличие в том, что у камгортской кружки ручка изготовлена в одно время с сосудом, а у сайгатин-ской – ручка более грубой работы, которую установили вместо утраченной. Различия имеются в орнаменте по бортику кружки: на сайгатинской – изогнутый растительный побег, на камгортской – поясок, составленный из сгруппированных по дуге штрихов и отпечатков кольцевого пуансона. Композиция декора тулова одинаковая: чередование более крупных и более мелких медальонов в форме квадрифолиев с двойной обводкой контура, только у камгортской кружки в них расположены исключительно растительные побеги. Аналогичны техника нанесения орнамента и заполнение фона отпечатками кольцевого пуансона.
Орнамент по бортику сосуда в виде изогнутой лозы с трехчастными листьями-полупальметтами известен на чаше из окрестностей пос. Понил Ивдель-ского р-на Свердловской обл. [Генинг, Крамаровский, 1973, рис. 2–9; Во дворцах…, 2008, с. 101], на чаше, найденной на р. Мал. Юган (Сургутское Приобье) [Яковлев, 2006, с. 145], а также на кубке с р. Иртыш [Генинг, Крамаровский, 1973, рис. 14; Во дворцах…, 2008, с. 101]. С ивдельской чашей сайгатинскую кружку сближает и наличие в декоре чередующихся более крупных и более мелких медальонов в форме квадри-фолиев. Для всех вышеперечисленных сосудов характерны двойная обводка медальонов, разделение растительного побега чеканными штрихами, сгруппированными по дуге, а также заполнение фона для орнамента отпечатками кольцевого пуансона. Похожи и некоторые изображения животных. Так, на чаше с Мал. Югана имеется фигура крупного зверя с заячьими ушами, на ивдельской чаше в двух медальонах – фигуры крупных хищных птиц с распахнутыми крыльями. Практически на всех сосудах этого круга встречаются изображения зверей с хвостом, пропущенным под заднее бедро и заканчивающимся крупной пальметтой.
Чаша ложчатая . В фондах Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса (далее – МВК) им. И.С. Шемановского хранится ложчáтая чаша (рис. 4), практически полностью аналогичная таковой из Сайгатино*. Совпадают даже размеры: диаметр по верху 14 см, высота 4,0 и 3,8 см. Обе чаши тонкостенные, изготовлены из серебра темного цвета, украшены 12 ложкáми, из них 6 гладкие, еще 6 с декором. На обеих чашах в орнаментированных ложкáх чередуются изображения растительных побегов и животных, выполненные чеканкой и позолоченные. Фон отделан отпечатками кольцевого пуансона. Сходство проявляется в оформлении бортика пояском из сгруппированных по дуге штрихов, дополненных отпечатками кольцевого пуансона, а также медальонов: двойная обводка контура под изображение, отсекающая верхние две трети ложкá. Фигуры животных размещены на фоне изогнутых растительных побегов. Чаши различаются лишь по персонажам, изображенным в медальонах: на сайгатинской чаше это козлы (лани), на чаше из фондов музея в двух медальонах – хищные звери с пропущенным под заднее бедро хвостом, в одном – крупная фантастическая птица. Отметим, что у обеих чаш не сохранились поддоны, заметен лишь след от припоя в нижней части чаш.
Чередование гладких ложков и ложков с изображениями, а также орнамент по бортику из сгруппирован-
Рис. 4. Чаша ложчатая из фондов МВК им. И.С. Шеманов-ского. Вид сбоку ( а ) и со дна ( б ).
ных по дуге штрихов и отпечатков кольцевого пуансона встречены на чаше из Пермской губ. [Смирнов, 1909, № 223; Генинг, Крамаровский, 1973, с. 10, рис. 3; Во дворцах…, 2008, с. 101]. Аналогичный орнамент по бортику украшает чашу из Сайгатинского III могильника [Сокровища Приобья, 1996, с. 208–210]. Лотосовидные цветы в медальонах с растительным орнаментом напоминают чашу из пос. Понил [Генинг, Крамаровский, 1973, рис. 12]. Животные, представленные в медальонах сайгатинской чаши, уникальны.
Блюдо. Изделия, полностью аналогичные сайга-тинскому блюду, не известны. Можно лишь назвать аналоги орнаментальным мотивам в его оформлении. Блюда с приклепанным на двух штырьках центральным медальоном и с умбонами (не сохранились) по бортикам, относящиеся к рассматриваемому или более раннему периоду, на приобских и сопредельных территориях не встречены. Вызывает вопросы наличие центрального отверстия в медальоне. Все известные сегодня блюда, одновременные и примерно одновременные сайгатинскому, не имеют признаков сборных конструкций, а высокие рельефы в центральных медальонах откованы (вычеканены) вместе с блюдом (чашей) (см., например, известную чашу со сценой полета Александра на грифонах) [Сокровища Приобья, 1996, с. 153].
Декор сайгатинского блюда состоит из двух различных частей – центрального медальона и орнамента на дне. Центральный медальон – выпуклая восьмилепестковая розетка на плоском основании – украшен мотивом сгруппированных по дуге штрихов с отпечатками кольцевого пуансона внутри. Это характерно для целой группы ложчатых чаш и кружек, сведения о которых приводились выше. Декор на дне блюда, выполненный с применением инструмента типа циркуля и состоящий из розеток с шестью узкими лепестками, над которыми расположены фигуры в виде сильно стилизованных пятичастных пальметт и цветков, находит аналогии в другой группе сосудов. В погр. 194 Сайгатинского IV могильника находилась круглая чаша со сходным декором в виде розетки с шестью узкими лепестками на дне и с пятичастными пальметтами по краю [Крамаровский, 1991, с. 25; Угорское наследие…, 1994, рис. на с. 124]. Параллели проявляются в технике нанесения орнамента с внутренней стороны плоским чеканом, покрытии позолотой элементов узора, а также расположении узора на фоне отпечатков пуансона. Практически такая же чаша была обнаружена недалеко от с. Губдор Чер-дынского уезда ок. 1907 г. [Смирнов, 1909, с. 15; Чер-дынские клады…, 2013, с. 28–30]. Я.И. Смирнов от-

а

нес ее к «полуевропейскому и полуазиатскому» типу [Смирнов, 1909, с. 15]. Аналогичным орнаментом украшена внутри поясная чаша из собрания фонда Марджани [Крамаровский, 2013, с. 214–215]. Обращает на себя внимание то, что декор нанесен снаружи, а ручка с «тонкой и завершенной графикой цветочных узоров» [Там же] явно диссонирует с остальной орнаментацией. М.Г. Крамаровский упоминает о группе из десяти сосудов, в которую входят чаша из собрания Марджани, две чаши из раскопок Н.И. Веселовского (хранятся в Государственном историческом музее, не опубликованы), две чаши из случайных сборов (?) (хранятся в Одесском археологическом музее, не опубликованы), чаша из Каширского р-на Воронежской обл., две находки из Сайгатино, а также ковшик с ручкой в виде протомы дракона из Саратовского краеведческого музея [Там же, с. 214–217]. Он полагает, что все вещи могли быть изготовлены в одной мастерской [Там же].
Атрибуция и датировки
Атрибуция сосудов из комплекса Сайгатинского I святилища и аналогичных им как важной части массива золотоордынской торевтики XIII–XIV вв., а также их роль в становлении этого вида искусства неоднократно рассматривались в работах, пожалуй, самого авторитетного сегодня знатока золотоордынского художественного металла М.Г. Крамаровского [Генинг, Крамаровский, 1973; Крамаровский, 1991, 1996, 2008,
2012, 2013]. Он пишет о двух взаимосвязанных пластах золотоордынского художественного металла – «имперского», сложившегося в рамках Великого монгольского государства (1211–1260 гг.), и «улусного», сформировавшегося на чингизидской традиции в условиях независимых государств потомков Чингисхана. Анализируя конкретный материал Сайгатинских могильников и святилища, М.Г. Крамаровский делает важный вывод: «С сайгатинскими находками появилась возможность представить процесс формирования одной из центральных групп золотоордынского серебра» [1991, с. 15].
Таким образом, анализ конкретных предметов торевтики золотоордынского времени в Сургутском Приобье позволяет выявить некие механизмы взаимодействия различных культур центральной части Евразии в эпоху появления и функционирования монгольских государств. Это можно считать серьезным прорывом в истории Евразийского Средневековья, т.к. до сих пор монгольские государственные образования рассматривались почти исключительно в свете их роли как завоевателей, разрушивших домонгольские государства Европы и Азии. Представляется возможным сделать и более конкретные, но не менее важные выводы о механизмах этого взаимодействия. Неоднократно ставился вопрос о месте изготовления сайгатинских и аналогичных им сосудов. Предлагалось, в частности, возможным местом локализации этих центров считать территорию бывшей Волжской Болгарии, а именно Булгарского улуса Золотой Орды [Федорова, 1991, с. 202].
Интересно рассмотреть вопросы: можно ли отнести всю эту продукцию к работе конкретных булгарских мастеров, трудившихся уже в рамках улуса? вообще насколько возможно такое точное определение этнической принадлежности мастеров? В этой связи позволим себе длинную цитату из труда К.А. Руденко: «Ювелирные мастерские – понятие в данном случае условное. Подразумевается группа мастеров, объединенных определенным сходством творческой манеры, работавших в одно время и, возможно, в одном месте (территории). Работать они могли на рабочем месте и на подворье знатного горожанина, и при дворе эмира, и загородном владении богатого вельможи. Обнаружить конкретное место исполнения работы, учитывая характер материала и самого процесса, весьма затруднительно». Он же приводит пример: «Несмотря на достаточно большое количество археологических свидетельств ювелирного дела на Билярском городище, начиная от сырья до инструментов, самой мастерской ювелира-сребродельца обнаружить не удалось» [2015, с. 70]. Более того, средневековое мастерство вообще плохо укладывается в четкие национальные и даже государственные рамки, ему скорее свойственна многонациональность. Не в малой степени этому способствовали монгольские завоевательные войны, приведшие к стягиванию – как принудительному, так и добровольному – мастеров различных профессий и национальной принадлежности в новых центрах. Выучка мастеров и их следование определенному стилю поддается фиксации, но и в этом случае мы не можем быть уверенными в точной локализации мастерской или мастерских. Работая в этих центрах с новыми заказчиками, мастера должны были учитывать их вкусы и потребности, в частно сти стремление к единообразию. Б.И. Маршак отмечает: «Все, что связано с боевой одеждой и снаряжением, а также с пирами-приемами было в значительной степени унифицировано» [1996, с. 42]. Он же подчеркивает важную роль китайских мастеров в формировании первоначального стиля золотоордынской торевтики: в результате наложения на «китайский» импульс других культурных влияний – иранских и среднеазиатских, потом славянских, западно-европейских и византийских – создавалась удивительная по своему разнообразию продукция, в которую входили кроме серебряных и золотых со судов элементы ко стюма, украшения, парадное вооружение.
Сомневаясь в возможности точно определить место изготовления сайгатинских и аналогичных им сосудов, мы все-таки допускаем, что оно находилось на территории Булгарского улуса. В пользу этого предположения свидетельствует, в частности, продукция волжско-булгарских мастеров: с начала становления среброделия в X–XI вв. она демонстрирует «органическое сочетание традиций тюркского мира, художественных приемов и сюжетов городской культуры Средней Азии (сначала домусульманской согдийской, потом исламской) и изобразительных элементов, присущих языческому населению Урала и севера Западной Сибири» [Федорова, 2003а, с. 138]. Наше предположение подтверждается и наличием во всех отно сящихся к периоду после XIII в. комплексах, в т.ч. в Сайгатинских памятниках, большого количества серебряных украшений «булгарского» круга.
Золотоордынская торевтика в Приобье
Рассматривая вопрос о времени и путях, по которым золотоордынская торевтика продвигалась в Западную Сибирь (Приобье, Зауралье), исследователи пишут об огромной территории как о некоем единстве: «археологические объекты (имеются в виду сайгатинские. – Н. Ф. ) принадлежат обским уграм» [Крамаровский, 1991, с. 11]. На самом деле начиная с рубежа эр и особенно в начале II тыс. н.э. территориального единства и единой исторической судьбы у народов, населявших северные, таежные и тундровые районы Западной Сибири, уже не существовало.
Это хорошо прослеживается по разным источникам, в т.ч. по материалам анализа локализации импортных изделий из серебра различных групп в разных районах Приобья. Так, иранские серебряные изделия VIII–IX вв., исламские X–XI вв., раннебулгарские и урало-венгерские найдены в бассейнах рек Сев. Сосьвы – Сыни, западно-европейские чаши второй половины XII в. обнаружены (когда места находок известны) в юго-восточной части территории Шурыш-карского р-на ЯНАО, круглые бляхи с изображением сокольничьего – в пределах Сургутского уезда – Березовского окр. на территории современного Ханты-Мансийского автономного окр. [Федорова, 2003б, с. 17; 2014, с. 164]. Места обнаружения золотоордынской торевтики локализуются на более узкой территории – в Сургутском Приобье, за пределами которого сосуды золотоордынских мастеров, если и представлены, то единично, тогда как коллекция из района Сургута более чем представительна: восемь со судов, датированных серединой XIII – первой половиной XIV в. Единственный сосуд (и отдельно поддон, скорее всего, от другой чаши (рис. 5)), хранящийся в фондах МВК им. И.С. Шемановского, не имеет привязки к месту.
Еще одна группа сосудов обнаружена на юге Западной Сибири, в лесостепной зоне – в Тарском окр. Тобольской губ., или «на Иртыше» (территория улуса Шабана) [Руденко, 2015, с. 33, карта]. Очевидно, что уровень общения различных группировок ордынской знати внутри лесостепной или степной зоны был намного выше, чем с таковыми таежной зоны, к которой относится Сургутское Приобье, никогда, кстати, не входившее в состав империи чингизидов. Иными словами, появление серебряных сосудов на Севере и на территориях, расположенных южнее, – результаты разных процессов.
Для поиска путей проникновения «сайгатинской группы» вещей в Западную Сибирь, вернее на территорию Сургутского Приобья, важными представляются находки, отчасти маркирующие эти каналы, например, чаши из Пермского края (пермская чаша, губдорская поясная чаша и кружка из Камгорта), а также чаша из Ивдельского р-на (север Свердловской обл.). Близость указанных изделий предполагает их изготовление золотоордынскими мастерами, причем трудившимися в определенном регионе. Ранее предполагалось, что этим регионом была бывшая Волжская Болгария, а ныне – Булгарский улус Золотой Орды [Федорова, 1991, с. 202]. Что может свидетельствовать в пользу этого предположения? Торговые пути из Волжской Болгарии на север Западной Сибири маркируются начиная с X в. многочисленными импортными вещами: от серебряной посуды до большого количе ства ювелирных украшений; их обилие стало причиной смены к началу II тыс. н.э. статусного

Рис. 5. Поддон чаши из фондов МВК им. И.С. Ше-мановского.
набора украшений и принадлежностей костюма у западно-сибирской элиты [Федорова, 2015, с. 80]. Можно продолжить спор о том, что именно из этого нового набора было изготовлено булгарскими мастерами, а что ювелирами Предуралья булгарской выучки [Руденко, 2015; Белавин, 2000], но это в данном случае не принципиально. Принципиальным представляется то, что ордынские сосуды, скорее всего, продвигались по проторенному пути из Булгар через северное Пред-уралье в Приобье. Причем именно в район Сургута. Очевидно, Сургутское Приобье стало местом концентрации этого вида художественного металла потому, что сосуды были получены в дар местной элитой. Сомнительно, что такая дорогая посуда могла быть всего лишь торговым эквивалентом.
В связи с анализом импортных товаров в пространстве культур – участников торговых операций В.П. Даркевич пишет о двух группах товаров – массовых импортных и завезенных драгоценных предметах. Предметы первой группы, по его мнению, отражают экономические связи, а второй – свидетельствуют об установлении международных контактов; они относятся к посольским дарам [Даркевич, 1975, с. 143].
Выводы
Проведенный анализ позволил уточнить значение предметов импорта из Булгарского улус а Золотой Орды не только в качестве составляющей собственно золотоордынской культуры, но и как показателя новых явлений в истории западно-сибирского Средневековья.
Места обнаружения серебряной импортной посуды в северных регионах Западной Сибири в общем совпадают с гипотетическими территориями обских средневековых княже ств – Кодского (Сев. Сосьва, район Березова), Бардакова (район Сургута), Куноват-ского (бассейн Куновата) и отдельных городков (Лор-Вож на берегу оз. Шурышкарский Сор) [Федорова, 2015, с. 77]. Возможно, концентрация большого количества серебряных сосудов, относящихся примерно к одному периоду, в районе урочища Сайгатино указывает на одновременность их завоза.
Широко известны средневековые клады, найденные в таежной части Приобья. Некоторые из них по составу и способу захоронения можно рассматривать как личные сокровища. Таковы, например, клады, найденные в 1975 и 1976 гг. на Барсовой Горе (район Сургута): они содержат металлические вещи, в т.ч. импортные, аккуратно упакованы в металлический сосуд, пересыпаны древесной трухой. Эти характеристики свидетельствуют о переходе местного общества на ту ступень развития, которая предполагает появление особого слоя – элиты, а также концентрацию в руках ее представителей сокровищ, полученных, возможно, в качестве особых даров.
Список литературы Серебряные сосуды золотоордынского времени из Среднего Приобья
- Белавин А.М. Камский торговый путь. Средневековое Предуралье в его экономических и этнокультурных связях. -Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2000. -179 с.
- Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы: каталог выставки. -СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2008. -431 с.
- Генинг В.Ф., Крамаровский М.Г. Ивдельская находка. -Л.: Аврора, 1973. -44 с.
- Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII-XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории Европейской части СССР и Зауралья. -М.: Наука, 1976 -198 с.
- Зеленый Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье/ред. Н.В. Федорова. -Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. -368 с.