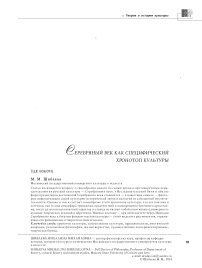Серебряный век как специфический хронотоп культуры
Автор: Шибаева Михалина Михайловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (62), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящается вопросу о своеобразии одного из самых ярких и противоречивых периодов развития русской культуры - Серебряному веку. «Исследовательский бум» и обилие форм презентации достижений Серебряного века становятся - в известном смысле - фактором мифологизации самой культурно-исторической эпохи и апологии ее самоценной исключительности. Однако в том и состоит своеобразие этого хронотопа культуры, что его поэтика и эстетика, как и сама атмосфера тревожных предчувствий и одновременно богемного артистизма, носят далеко неоднозначный характер и отнюдь не являют собой позитивную одномерность духовно-творческих исканий и обретений. Именно поэтому - при всём пиетете перед Именами Серебряного века и богатым фондом текстов культуры - стоит выделить ряд моментов, отражающих его разномыслие и творческое многоголосие.
Хронотоп культуры, самосознание культуры, иррационализм, мистический анархизм, религиозная философия, жизнетворчество, художественное экспериментирование, творческая богема
Короткий адрес: https://sciup.org/14489885
IDR: 14489885 | УДК: 008(091)
Текст научной статьи Серебряный век как специфический хронотоп культуры
в последние десятилетия активный интерес к этому периоду развития отечественной культуры значительно «перекрыл» внимание к интеллектуальным и художественным достижениям двух предшествующих столетий. ни Xviii век формирования в россии светской культуры, столь любимый мариной цветаевой, ни хiх-й, сохраняющий традиционный статус «золотого века» не являются в такой мере предметом исследовательской «страсти», как конец хiх — первая четверть хх столетия высокая степень внимания к серебряному веку обусловлена многими причинами, и основная из них, на мой взгляд, связана феноменом «взрыва» (лотман) мировоззренческих исканий и творческих экспериментов и эпатажно-игровых форм позиционирования многих талантливых мыслителей и деятелей искусства. Поисково-экспериментальный и полемический характер этой эпохи, её смысловая ёмкость и эмоциональный «нерв» придают ей статус специфического хронотопа куль ту ры.
именно поэтому трудно согласиться с тем определением н. а. богомолова, которое он дал в своих лекциях серебряному веку: «субкультура»1. возможно, утверждая такой статус этой блестящей эпохи, исследователь имел в виду те содержательные признаки субкультуры, которые позволяют говорить о ней, как о «суверенном целостном образовании и части общественной культуры». однако содержательная емкость серебряного века и присущая ему атмосфера полемичности в сочетании с «духом» богемы гораздо богаче и прихотливее, нежели нормативно-ценностная заданность той или иной субкультуры и однозначность ее творческого «кредо».
между тем для культурного опыта серебряного века характерны, как известно, та полистилистика рефлексивной и художественной деятельности, которая проявляется как факт культуры конца хiх — начала хх столетий в виде «калейдоскопа» творческих направлений и разнообразных форм их манифестирования в одежде, манере публичного поведения и общения. и в этом смысле уместно привести тезис е. г. Эткинда о том, что «серебряный век» как культурная эпоха являет собой парадоксальную целостность, состоящую из враждующих направлений и противоположных тенденций» [8, с. 185] . Примечательно при этом то, что эта «парадоксальная целостность» вызвала к жизни мощную энергию поисково-творческой направленности. не случайно н. а. бердяев трактовал серебряный век как «настоящий, культурный ренессанс». и эта характеристика также дает основание для осмысления серебряного века не как «субкультуры», а в качестве специфического хронотопа культуры.
не меньшим основанием для статуса хроно- топа культуры является, на мой взгляд, и беспрецедентная «заселённость» данного периода развития русской культуры плеядой оригинальных мыслителей и талантливых деятелей искусства. Плодотворность их деятельности такова, что именно в границах серебряного века сформировалось конфигуративное пространство диалога с интеллектуально-художественным опытом античности и возрождения, с одной стороны, и новых веяний в постклассической философии и художественных практиках — с другой.
При этом важно иметь в виду, что и в рефлексивном, и в художественно-творческом плане серебряный век имел немало точек соприкосновения с 80—90-ми годами хiх столетия, то есть с философией и с искусством этого периода. возможно, такая фигура умолчания вокруг завершающегося периода «золотого века» отечественной культуры обусловлена стереотипом восприятия его как «эпохи безвременья».
но как быть с тем неоспоримым фактом, что культурное пространство этого периода русской истории включает ряд крупных достижений в сфере естественных наук, философии и искусства? и если вспомнить, что Ю. м. лотман определял культуру не только как знаково-символическую систему, но и как пространство собственных имен, то это время предстанет насыщенным поразительным именным континуумом. в науке — именами д. и. менделеева, и. и. мечникова, и. м. сеченова, в философии — в. с. соловьева и н. Ф. Федорова, в искусстве художников а. К. саврасова и и. и. левитана, композиторов н. а. римского-Корсакова, а. г. рубинштейна, П. и. чайковского, мастеров словесного творчества и. Ф. анненского, с. я. надсона, н. г. гарина-михайловского, в. м. гаршина, а. П. чехова… да и поздние романы льва толстого, а тем более его нравственные искания, занимали важное место в ценностно-смысловом пространстве так называемой «эпохи безвременья», ничуть не меньше страстных произведений Ф. м. достоевского.
характерная для серебряного века интенсивность мировоззренческих исканий в значительной мере была обусловлена философ- скими учениями таких оригинальных русских мыслителей 80—90-х годов хiх века, как николай Федоров и владимир соловьев. «московский сократ», как называли Федорова его современники, разрабатывал основы «Философии общего дела», то есть проекта преодоления смерти, а родоначальник русского экзистенциализма владимир соловьев создал учение о теургии и концепцию всеединства. их идеи преображения средствами научного и художественного творчества связаны с установкой на то, «чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, — писал николай Федоров, — понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с нею». [7, с. 227]. а согласно владимиру соловьеву, для преображения жизни в соответствии с идеалом гармонии необходима сила «истинной веры, действующего воображения и реального творчества» [4, с. 517]
Правда, наряду с философскими проектами, пронизанными чувством «исторического оптимизма» относительно будущего человечества, в русском искусстве в пору преддверия серебряного века звучали и противоположные мотивы, близкие декадентскому умонастроению. так, с поэзией и. анненского и с. надсона связаны тенденции расширения тематического пространства русской литературы мотивами отрешения от «суеты сует», эстетизации феномена «томления духа» и утверждения идеи самоценности авторских переживаний. а в драматургической форме подобные мотивы и предчувствия были гениально выражены а. П. чеховым.
все эти факты и имена свидетельствуют о том, что серебряный век возник отнюдь не внезапно и вне культурного контекста рубежа хiх—хх столетий. в культурных текстах предшествующих серебряному веку десятилетий уже звучали мотивы, которые получат глубокое и яркое воплощение в философии и искусстве модерна.
другой вопрос, что присущая 80—90-м годам хiх века «тоска по лучшей жизни» (чехов) трансформировалась в следующую культурно-историческую эпоху в атмосферу тревожного ожидания кардинальных перемен в жизни россии и «всеобщей переоценки цен- ностей» (м. в. нестеров). Это видно хотя бы по тому, в каком направлении изменилась такая традиция русской культуры, как «во про-шание». социальный характер и общественное звучание извечно русских вопросов «Кто виноват?», «что делать?», «Кому на руси жить хорошо?» были перекрыты экзистенциальной сутью вопросов — «ку да ж нам плыть?» и «Зачем?» Поиск ответов на эти вопросы особенно нагляден в двух формах самосознания культуры — в философии (особенно религиозной) и искусстве модерна.
расцвет национальной философской мысли и появление нового интонационного строя в поэтическом выражении отношения к «последним» вопросам бытия были сопряжены с рядом проявлений кризиса рационализма и со становлением постклассической философии. иррационализм и пессимизм а. шопенгауэра и Ф. ницше, как и панэстетизм о. Уайльда, в немалой степени способствовали тому смещению смысловых акцентов в картине мира и концепции человека, которое наиболее зримо предстало в феномене декаданса и в сфере искусства. изменения такого рода в умонастроении, а также эстетизация различных способов ухода от «грубой прозы жизни» явились, на мой взгляд, существенным фактором генезиса такого специфического хронотопа культуры, как серебряный век. и в этом смысле глубоко прав в. К. Кантор: «мы упиваемся этим русским ренессансом начала XX века, восхищаемся им, забывая, что ренессанс этот вырастал из трагического ощущения русскими мыслителями наступающей эпохи. миропонимание их было вполне эсхатологическим, а не ренессансным» [2, с. 196].
на онтологическом уровне своеобразие серебряного века обнаруживает себя в ряде параметров и эстетических характеристик. Этот ряд включает: культурную инноватику и художественное экспериментирование; эстетизацию мистических, космологических и теургических мотивов; опыты соединения языков искусства с религиозной верой и достижениями философской мысли; исповедальную манеру самопрезентации творческой индивидуальности; богемный образ жизни и игровое поведение; вербальную и творческую полемику различных направлений в обеих формах самосознания культуры — философии и искусстве.
Полемический «нерв» пронизывал культурный контекст предоктябрьской эпохи, в котором конфигуративно сосуществовали декадентство и теургические грёзы, богостроительство и богоискательство, русский космизм и оккультизм, идеи «жизнетворчества» и «мистический анархизм». мировоззренческий «разнобой» и дискуссионная стихия этой культурно-исторической эпохи заметно активизировали творческий потенциал русской интеллигенции. Креативный дух серебряного века обнаруживает себя в обновлении многих сфер культуры — от пространства философской мысли россии до искусства.
Присущая этому хронотопу культуры атмосфера интеллектуального разномыслия и художественного экспериментирования оказалась катализатором успешного развития отечественной культуры в целом и искусства в частности. в художественно-эстетическом пространстве серебряного века «зацвела освободившаяся от передвижничества русская живопись. Крепли музыкальные дарования скрябина, метнера, рахманинова. от достижения к достижению, пролагая все новые пути, подымался на недосягаемые высоты русский театр» [6, с. 706]. новые пути пролагала и мысль о самой культуре: неоромантический пафос преображения, как и идея жизнетвор-чества, своеобразно сказались не только на философии и искусстве, но и на сфере религиозных переживаний.
и хотя существует мнение, согласно которому в пору серебряного века «философская мысль едва поспевала за перипетиями замысловатой игры ис кус ст ва и ре ли гии» [1, с. 7], сами имена русских мыслителей доказывают продуктивность мировоззренческих исканий: н. а. бердяева, с. н. булгакова, и. а. ильина, л. П. Карсавина, в. в. розанова, г. в. Флоров-ский, с. л. Франк… общим моментом для мыслителей и деятелей искусства серебряного века является упование на эстетизацию повседневных отношений человека с миром природы и культуры. мысль Ф. м. достоевского о том, что потребность в красоте зачастую обостряется из-за разлада человека с действительностью и переживаний дисгармонии, нагляднее всего подтвердилась множеством образцов актуализации принципа эстетизма в искусстве. авторы этих образцов не только «грезили» о гармонии, но и стремились своим творчеством «помочь предвечной и единосущной истине-красоте озарить собой мир» [5, с. 125].
и вновь требуется уточнение, если иметь в виду присущее серебряному веку разнообразие векторов поисково-творческой деятельности, манифестируемых средствами искусства как «самосознания культуры». одно дело — установка «мира искусства» на понятие и идеал красоты, другое — осознанное снижение статуса категории прекрасного у футуристов или сотрудников «сатирикона». и если эстетический принцип гармонии был значимым для русского балета, также испытавшего на себе печать художественного экспериментирования, то в ряде поэтических и живописных творений предоктябрьского хронотопа культуры явственно видна эстетическая переориентация. в связи с этим трудно удержаться от того, чтобы не напомнить строки одного из основоположников отечественного футуризма — владимира маяковского:
я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня косые скулы океана.
на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ.
а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?
впрочем, это провозвестие постмодернистской эстетики все-таки носило в пору серебряного века локальный характер — при всей яркости и оригинальности словотворческих проб и эпатажно-образных пассажей давида бурлюка, василия Каменского и велимира хлебникова, жаждавших вместе с маяковским «сбросить Пушкина с корабля современности». в лице же символистов обоих поколений и акмеистов серебряный век одарил наглядными образцами обновления спектра возможностей утверждать, что «мир прекрасен, как всегда» (александр блок). не случайно в своей книге «на Парнасе серебряного века» сергей маковский подчеркивал: «… нам, русским в предреволюционную эпоху, опять (как в древнем язычестве и в пору христианского средневековья) захотелось повернуть в божественный смысл красоты, обернувшись на запад, по завету ближайших предков, и на свой христианский восток» [3, с. 50].
на эту сложную задачу и были направлен талант ярких в своих творческих и жизненных проявлениях деятелей серебряного века. огромный массив уникальных достижений, созданных в границах этого специфического хронотопа культуры, сохраняет свою ценность и притягательность до сих пор. вопреки прессингу испытаний «попсой» и пародийноигровых «искушений» постмодернизма.