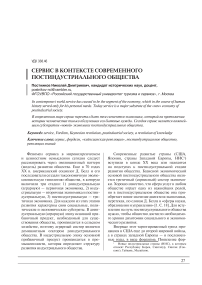Сервис в контексте современного постиндустриального общества
Автор: Постников Николай Дмитриевич
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 2 т.5, 2011 года.
Бесплатный доступ
В современном мире сервис перестал быть тем сегментом экономики, который на протяжении истории человечества только обслуживал его бытовые нужды. Сегодня сервис является важнейшим субстратом «новой» экономики постиндустриального общества.
Короткий адрес: https://sciup.org/140210035
IDR: 140210035 | УДК: 338.46
Текст научной статьи Сервис в контексте современного постиндустриального общества
Феномен сервиса в мировоззренческом и ценностном осмыслении сегодня следует рассматривать через эволюционный паттерн (модель) развития общества. Еще в 70 годах ХХ в. американский социолог Д. Белл и его последователи создали таксономичную эволюционистскую типологию общества, в которую включили три стадии: 1) доиндустриальную (аграрную) — первичная экономика, 2) индустриальную — вторичная экономика и постиндустриальную, 3) постиндустриальную — третичная экономика. Для каждого из этих этапов развития характерны свои социальные, политические и экономические субстраты. В доин-дустриальную (аграрную) эпоху основной прибавочный продукт, необходимый для существования общества, производится в сельском хозяйстве, поэтому аграрный сектор является доминантным сектором доиндустриального общества. В индустриальную эпоху основной прибавочный продукт производится в промышленности, которая определяет структуру развития индустриального общества.
Современные развитые страны (США, Япония, страны Западной Европы, НИС1) вступили в конце ХХ века или находятся на подступах к постиндустриальной стадии развития общества. Базисной экономической основой постиндустриального общества является третичный (сервисный) сектор экономики. Хорошо известно, что сфера услуг в любом обществе играет одну из важнейших ролей, но в постиндустриальном обществе она приобретает новое значение двигателя экономики, перетекая, по словам Д. Белла в «сферы науки, образования и управления» [1. С. 18]. Для вступления на путь постиндустриального общества нужно, чтобы общество достигло необходимого уровня дихотомии социального и экономического развития.
Впервые этот таргетированный тренд проявился в США еще до второй мировой войны, а в странах западной Европы — в послевоенны е годы, в виде фордизма. Появление фор-
1 Новые индустриальные страны (НИС), к которым относят Республику Корея, Сингапур, Сянган (Гонконг), Тайвань, Малайзию.
дизма как явления было связано с достижением индустриальных стран Запада определенного уровня развития общества и постепенного перехода их экономик в мейнстрим экономики сферы услуг. Выдающийся американский экономист С. Кузнец дал этому процессу объяснение, впоследствии ставшее хрестоматийным.
Во-первых, этот переход был связан с ростом в индустриально развитых странах Запада в данный период агрегированного продукта, что повлекло за собой структурное преобразование всей экономической модели, в том числе изменение структуры доходов семьи в сторону их увеличения. Во-вторых, сдвиг отраслевой структуры в сторону сервисной экономики С. Кузнец объясняет с помощью понятий эластичности конечного спроса по доходу и закономерностями технологического прогресса, что приводит к сокращению затрат труда на производстве, но при этом повышаются трудовые затраты при выполнении промежу-точных/вспомогательных функций, т. е. растет сегмент сферы высококачественных и высокопрофессиональных деловых и государственных услуг без которых невозможенрост высокотехнологичной, основанной на научно-техническом прогрессе современной экономики2. Такие сдвиги в экономике возможны, если общество сможет изменить свою институциональную структуру, т. е. перейти стадиально (политически, социально и исторически) в эпоху/формацию постиндустриального общества, в котором сервис имплицитно приобретает новое измерение.
В областиэкономики формирование модернизационной, постиндустриальной, основанной на знаниях модели предполагает, во-первых, наличие сложившихся сегодня в экономике развитых стран высокотехнологичных отраслей, таких как машиностроение, роботостроение, химическая промышленность и других, во-вторых, повсеместное внедрение в производство и в более широком понимании в экономику в целом достижений НТР (научно-технической революции), что приводит к значительным сдвигам в структуре экономи- ки, когда возрастает ее эффективность и объем выпускаемого конечного продукта, увеличивается фонд массового потребления.
Такие изменения становятся возможны благодаря понижению затрат на производство товара и создание технологических и интеллектуальных условий для масштабирования как материального (вещи), так и нематериального (идеи) продукта, а значит, получения выгоды от эффекта возрастающей отдачи. В рамках постиндустриального общества сам выпускаемый продукт, оказываемая услуга как вид получаемого блага приобретают новые черты тиражирования/масштабирования, а не воспроизводства, особенно ярко данный тренд прослеживается в производстве (тиражиро-вании/масштабировании) информационных продуктов/услуг, что приводит к совершенно новому явлению масштабированию социальных явлений3.
В области социально-экономических отношений модернизационный тренд эксплицитно предполагает включение широких слоев населения в новую структуру социально-экономических отношений, генерируемых фордизмом, осмысленных кейнсианством и переведенных в социально-политическую плоскость. Неолиберальная «кейнсианская революция» была направлена на ограничение экономической политики laissez-faire, стимулирование/повышение уровня занятости и потребительского спроса.
Как результат, произошел рост темпов нематериального производства (третичного сектора), что инициировало социальные изменения в обществах развитых стран. Эти социальные и экономические подвижки были направлены на расширение рынка услуг, а значит, на удовлетворение быстро растущих потребностей общества. Общественная коадаптация в рамках данного процесса способствовала формированию новой парадигмы и интенции в социологических теориях развития общества. Так немецкий социолог Р. Дарендорф считает, что человечество приобретает в различные исто-рическо-экономические эпохи/формации развития доминирующие дифференцированные, назовем их в данном контексте, ментальные смыслысуществования. Эти смыслы таргети-рованно связаны с эволюционным линейным паттерном развития, предложенным Д. Беллом.
По теории Р. Дарендорфа, для человечества в разные эпохи/формации его существования характерны следующие ментальные смыслы:
-
1) Homo faber (человек работающий) для аграрного общества;
-
2) Ноmo universalis (человек универсальный) для индустриального общества;
-
3) Homo consumer (человек потребляющий) для постиндустриального общества.
Таким образом, Р. Дарендорф, выделяя тип Homo consumer, определяет социальный праксис экономики постиндустриального общества — обеспечивать постоянно растущие флексиболизированные потребности человека потребляющего с помощью сегментирования рынка (кастомизации и т.д.). Для постиндустриального общества характерным становится рост доходов, повышения уровня образования и увеличение свободного времени среди большинства слоев населения, что приводит к социальной дивергенции общества, формирует новую социальную реальность, в которой важнейшую роль начинает играть новая политико-социальная страта — средний класс .
При этом вслед за социальной модернизацией возникающее в постиндустриальную эпоху общество потребления/потребителей трансформирует и политическую систему, характерной чертой которой является демократия как политический режим.
Изменения в политической области следует трактовать через призму социальнойвключен-ности (понятие, введенное в научный оборот Э. Гиденнсом), под которой понимается «формальное применение и действительное осуществление тех политических прав, которыми обладает каждый член общества, и тех гражданских обязанностей, которые он должен выполнять. Однако осуществление на деле этих прав и обязанностей зависит в значительной степени от равенства возможностей граждан» [2. Р. 31], а равенство обеспечивается как раз посредством доступа к образованию и повышением квалификации4. Социальная включенность инициирует политическую активность населения, его «включение» в политический про цесс. Формируется устойч ивый тренд уча-
-
4 Здесь просматривается прямое соотношение/корре-ляция идеи Э. Гиденнса с теорией человеческого капитала, о которой будет сказано ниже.
стия населения в защите окружающей среды, в работе правозащитных, просветительских и иных общественных организаций, что изменяет политический климат в стране, вступившей на этот путь, формирует в ней новую политическую структуру в дихотомии государство-общество, где общество начинает играть все более заметную роль. Проявлением такого «народного конструкционизма» является деятельность некоммерческих организаций (НКО), роль которых в обществе возрастает, в том числе как организаций, оказывающих некоммерческие услуги в общественном секторе.
Как результат, кроме собственно возмездного обмена, в рамках общественных организаций (наряду также с творческим безвозмездным взаимодействием личностей, приводящим в частности к обмену идеями и информацией) просматривается появление новых производственных отношений, основанных на безвозмездном предоставлении благ и услуг, и это, по мнению исследователей, говорит о появлении контуров новой специфической экономики дарения (gift economy)5. Так, в 2006 году в США экономика дарения (gift economy) составила 5% ВВП страны, в ней трудилось при-близительно10% всех занятых, а емкость данного рынка основанного на частных пожертвованиях достигла $ 186,6 млрд [12].
Трансформация политической системы постиндустриального общества уже привела к появлению и новых направлений развития демократического устройства в виде, например, пар-тисипативной и делиберативной демократии.
В целом, однако, следует понимать, что данный тренд перехода стадиально (политически, социально и исторически) в эпоху/форма-цию постиндустриального общества, не может носить линейный характер быстрого, таргетированного и сингулярного, а значит, инициированного кем бы то ни было, социального транзита, а является следствием закономерного мейнстрима историко-временного и фрак-тально-синергийного развития современных развитых обществ.
Именно на стадии вышеперечисленных изменений в социальных отношениях, а также в экономической и в политической сферах, уже складывается постиндустриальное обще- ство. Одной из его характерных особенностей становится сервис как новое функциональное понятие. Главной задачей сервиса становится не только обслуживание, что было характерно и для доиндустриального и индустриального обществ, но и структурирование значитель-ноусложнившихся социальных, экономических, а вслед за ними — политических отношений в постиндустриальном обществе.
Наибольшего развития в этом направлении добились к концу ХХ — началу XXI века, прежде всего, США, Япония и страны Западной Европы. Так, структура американской экономики показала невиданные темпы развития и роста третичного сектора в период с конца 40-х до 90-х годов ХХ века. В частном секторе американской экономики, которая в процентном отношении в структуре ВВП (добавленная стоимость в % от ВВП), составляет доминантный показатель на протяжении последних 60 лет, а именно константу около 87% (87,5% в 1947 году и 87,1% в 2008 году, соответственно государственный сектор от 12,5% в 1947 году до 12,9% в 2008 году), производство услуг росло значительными темпами. В 1947 году данный показатель составлял 44,8% ко всему производству в частном секторе, в 1987 году — 58,8%, в 2000 году — 66,5%, в 2008 году — 68,2%.
Производство товаров в индустриальном сегменте частного сектора экономики США в процентном соотношении в структуре ВВП за этот же период сократилось с 41,9% в 1947 году, до 18,9% ВВП в 2008 году6 [3. С. 37]. Имплицитно росло и число занятых в третичном секторе экономики США: в 1973 году эта доля составляла 54—55% от всего занятого населения, в 1990 году — 64—66%, в 2007 году — 72—73% [4. С. 7].
При этом в сервис в постиндустриальном обществе включается несколько компонентов: а) услуги нарынке высоких технологий (НИ
ОКР, обслуживание компьютерного рынка, био- и нанотехнологии, новые конструкционные материалы, атомная энергетика, когнитивные технологии и т.д.), — все, что составляет шестой технологический уклад ;
-
б) посредническиеуслуги (финансовые услуги, логистика и др.);
-
в) услуги в бытовой сфере и др.
Рынок первого компонента услуг является базисным для дальнейшего развития постиндустриального общества. Развитие высоких технологий привело в начале XXI века к формированию новой стадии постиндустриального общества, получившее название информационное или виртуальное общество . Для информационного общества характерен, прежде всего, новый уровень информатизации экономики. В таких странах, как США, Германия, Норвегия и некоторых других уровень информатизации экономики достиг более 89%, в то время как в России отсутствует даже методика объективной оценки уровня информатизации общества. Чтобы понять, что «информационный разрыв» как неравенство в доступе к информации принял стадиальные различия, приведем следующий пример: в России уровень распространения Интернета (2007 год) составлял 22,8%, а в развитых странах достиг более 90% [5]. В связи с бурным развитием информационных технологий в экономиках развитых стран часть исследователей утверждает, что информационное общество — это следующий за постиндустриальным обществом этап развития современных развитых стран (над данной проблематикой активно работает целый ряд исследователей: А. Бюль, Н. Луман, М. Паэтау, А. Крокер и др.).
Экономика постиндустриального общества (страны-продуценты) живет и развивается за счет агрегации высоких технологий, их разработок и внедрения в экономику, кастомизации, продаж разработанных высокотехнологических продуктов, их сервисного обслуживания. Компании-продуценты, работающие на рынке высоких технологий, в развитых странах (США, Япония, страны Западной Европы и некоторые другие) являются наиболее перспективными и капиталоемкими. Их успехи связаны с приростом высокопроизводительных неосязаемых активов при широком использовании НТР, это, прежде всего, производство технологий и нематериальных идей. Исследуя данную проблематику, американские экономисты Э. Бриньолфссон и Л. Хитт подсчитали, что «на каждый доллар, вложенный в информационные технологии, фирма получает дополнительно 9 долларов неосязаемых активов» [6. С. 69]. В данной связи стоит вспомнить хотя бы Microsoft.
Использование высоких технологий в производстве позволяет не только создавать новые перспективные продукты на рынке, но и, что не менее важно, с помощью информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) дают возможность модернизировать и гармонизировать менеджмент, более эффективно управлять бизнесом, это позволяет экономить значительные средства, потому что скорость принятия решений и аллокации с помощью высоких технологий (компьютерной сетевой связи, высокоскоростных электронных сетей, системы on-line, когнитивных технологий и т.д.) возрастает многократно, что стимулирует рост мобильности и гибкости производства, создавая для таких компаний еще больше преимуществ на рынке. Более того, в тех странах, где целенаправленно принимаются меры для повышения уровня конкурентоспособности сферы услуг/ сервиса, инвестиций и внедрения в экономику ИКТ, увеличивается рост производительности труда. К примеру, в США сфера услуг после 1995 года обеспечивала 73% прироста производительности труда в частном секторе [7. С. 45]. Характерным примером является торговая компания «Уол-Март», которая одной из первых стала использовать штрих-код, что повысило производительность труда. Целенаправленная политика руководства компании по внедрению инновационных идей, в том числе создание концепта гипермаркета, покорившего мир, помогла, по мнению автора статьи об «Уол-Март» в The Wall Street Journal Г. Макуилльямса, «повысить производительность труда в Америке, понизить уровень инфляции и укрепить покупательную способность миллионов людей» [6. С. 76]. Следующим шагом в развитии концепта гипермаркета станет применение в розничной торговле нанотехнологий, а именно внедрение RFID-технологии (технологии радиочастотной идентификации), что позволит управлять магазинами и покупателями в on-line режиме, списывать деньги с RFID-карточек автоматически и избавиться от касс и кассиров [8. С. 24].
В целом, в США в период с 1996 по 2004 год показатель совокупной факторной производительности (СФП) вырос на три четверти [4. С. 6], в то время как в российской экономике ситуация совершенно противоположная. По итогам 2006 года производительность труда у почти 65% всех занятых в сфере услуг была ниже, чем в реальном секторе экономики [9].
Хотя вышеописанный тренд развития постиндустриальной экономики сегодня не оспаривается, но не следует его упрощать, ибо он имеет достаточно сложный и нелинейный механизм реализации. Это связано с так называемым парадоксомР. Солоу, понятием, введенным американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии 1987 года. Еще одним примером нелинейности развития третичной экономики является эффект У. Баумоля 7 , который продуцирует замедление роста производительности в экономике ввиду интенсивного перемещения рабочей силы в сферу услуг.
Новые реальности современного мира диктуют новые социальные отношения. Из-за высоких темпов внедрения новых технологий в развитых станах ценность человеческой жизни в них значительно возрастает. Научно-техническая революция и связанные с ней развитие высоких технологий, современный уровень менеджмента требуют роста профессиональных качеств работников и их высокой квалификации. Развитые страны столкнулись с этой проблемой во второй половине ХХ века. Отсутствие достаточного числа необходимых специалистов приводило к снижению темпов экономического роста. Ответом на этот вызов стало создание новой экономической теории — теории человеческого капитала.
Теория была разработана в конце 50-х — начале 60-х годов ХХ века. Ее создатели — американские экономисты Т. Шульц, Г. Беккер, Э. Денисон, Б. Вейсброд и др. подчеркивают, что наряду с физическим капиталом (финансовым и промышленным) в экономике развитых стран действует новый тип капитала. Он получил название — человеческий капитал. По своей стоимости он превосходит физический капитал.8 ООН рассчитывает уровень развития человеческого капитала с помощью интегрального индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который показывает сегодня, в контексте модернизационного тренда, перспективы, направления и темпы развития экономик отдельных стран. Россия, например, по этому важнейшему показателю занимает да- леко не ведущие позиции, находясь на 67 месте в мире9 [10. С. 456].
Информационные технологии и генерируемые ими неосязаемые активы, человеческий капитал являются важнейшими компонентами формирования в постиндустриальных странах новой социально-экономической действительности — революции знаний . 10
Революция знаний опирается на НТР, ИР (информационную революцию), наращивание населением т. н. невещного богатства, прежде всего, знаний, приобретающих суть нового капитала, за счет которого развиваются производство нематериальных идей и технологии, экономики в целом, формируется богатство страны и доходы отдельных граждан. Когда сегодня знания становятся/являются субстратом успешности и праксисом развития экономик не только постиндустриальных стран, но и любой страны, которая стремится стать/быть конкурентоспособной. Именно об этом неявном компоненте знания писал С. Кузнец: «Эпохальная инновация, которая характеризует нынешнюю экономическую эпоху, заключается в расширенном применении науки для решения проблем экономического производства». И далее: «Таким образом, когда мы говорим, что отличительной чертой современной эпохи является применение науки к проблемам экономического произв одства и человеческого бл агоденствия, мы
-
9 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), имеющий также ряд других названий: индекс развития человеческого капитала (ИРЧК), индекс человеческого развития (ИЧР) и т.д. Это интегральный показатель, характеризующий уровень образованности, среднюю продолжительность предстоящей жизни и уровень материального достатка.
-
10 Уровень иммерсии и структурирования революции знаний в социально-экономическую действительность постиндустриальных стран рассчитывается при помощи ряда индексов. Например, в экономике с помощью индекса интенсивности ИР (информационная революция) — это отношение расходов на ИР к стоимости, добавленной обработкой. В области общественных отношений это, например, индекс показывающий число исследователей на миллион жителей. В России он составляет 475 человек, что сопоставимо с Бразилией — 462 человека, но меньше чем в Китае — 708 человек. При этом Россия по данному показателю резко отстает от развитых стран. В США этот показатель равен 4605, в Японии — 5294. См.: URL: http://www.benran.ru/Magazin/cgi-bin/Sb_07/pr_07.exe ?! 8! (Дата обращения: 15.12.2010), Мельянцев В. Сдают ли развитые страны развивающимся свои позиции? // МЭ и МО. 2009. № 12. С. 3.
имеем в виду, что ее отличает особый климат человеческих мнений, определенные господствующие взгляды на соотношение человека и вселенной, благоприятствующие развитию науки и ее практическому применению» [11. Р. 9, 12]. Приоритетным направлением такого развития становится инновационная экономика, реализуемая в стратегии инновационного лидерства.11
Все это позволяет говорить о «новой экономике» постиндустриального общества, признаками которой можно считать:
-
1) третичную экономику (инновационная экономика, экономика сферы услуг);
-
2) человеческий капитал;
-
3) революцию знаний;
-
4) передовые высокотехнологические отрасли экономики;
-
5) мобильность и кастомизация товаров, услуг, капиталов, технологий, информации;
-
6) повышение качества жизни широких слоев населения;
-
7) расширение рынка услуг.
Таким образом, впостиндустриалъномоб-ществе сервис приобретает новый стадиалъный по сравнению с прошлыми историческими эпохами двуединый уровенъ высокотехнологичной, инновационной экономики и свободной демократической системы.
О данном тренде развития говорят и исследователи современного постиндустриального общества. По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике 1998 года индийско-английского экономиста А. Сена, в современном обществе развитие происходит в контексте расширения самоорганизации людей, которую он трактует как «свободу выбора между различными образами жизни» и как «экспансию человеческих возможностей» [13. С. 103], что является «отличительными чертами постиндустриального гуманистически-ноосферного общества», в котором мейнстримом развития «будет приоритет человека и рациональная коэво люция природы и обществ а» [14. С. 126].
Список литературы Сервис в контексте современного постиндустриального общества
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. С. 18.
- Multip1e Third Ways: European Social Democracy Facing the Twin Revolution of Globalisation on the Knowledge Society. Amsterdam. 2001. 33 Традиции молодой городской семьи Подмосковья в современных условиях. Часть первая...
- Давыдов А. Структурные изменения в американской экономике//МЭ и МО. 2009. № 11. С. 35-47.
- Мельянцев В. Сдают ли развитые страны развивающимся свои позиции?//МЭ и МО. 2009. № 12. С. 3-18.
- Юнусов А. М. Теоретические основы формирования и становления сетевой экономики в России. Автореф. дис… к-та экон. наук. М., 2008.
- Антипина О. Н. Настоящее богатство «новой экономики».//США -Канада. 2008. № 12. С. 63-76.
- Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности//МЭ и МО. 2006. № 12. С. 40-52.
- Десять в двенадцатой степени.//Эксперт. 8-14 ноября 2010 года. № 44 (728). С. 18-27.
- Савчишина К. Е., Сутягин В. С. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской экономики. Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 46-61.
- Клюев Н. Н. Социальное развитие России в глобальном контексте.//География мирового развития. Вып. 1. Сборник научных трудов. Под ред. Л. М. Синцерова. М., 2009.
- Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Heaven, 1966.
- Статья «Экономика дара: вход свободный») URL: http://odnakoj.ru/archive/20100405/yekonomika/yekonomika_dara_vhod_svobodnxj/(Дата обращения: 15.12.2010).
- Человеческое развитие: количественное измерение и процессы в мировой системе.//МЭ и МО. 2010. № 7.
- Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т.//Т. I: Теория и история цивилизаций. М.: Институт экономических стратегий, 2006.