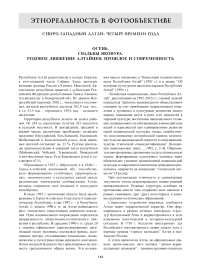Северо-Западный Алтай: четыре времени года осень. Свадьбы Яконура. Родовое движение алтайцев: прошлое и современность
Автор: Октябрьская И.В., Шуньков М.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнореальность в фотообъективе
Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522554
IDR: 14522554
Текст статьи Северо-Западный Алтай: четыре времени года осень. Свадьбы Яконура. Родовое движение алтайцев: прошлое и современность
Ре спублика Алтай расположена в центре Евразии, в юго-западной части Сибири. Здесь проходит внешняя граница России с Китаем, Монголией, Казахстаном; республика граничит с субъектами Российской Федерации: республиками Тыва и Хакасия, Алтайским кр. и Кемеровской обл. По данным Всероссийской переписи 2002 г., численность постоянных жителей республики достигла 202,9 тыс. чел., в т.ч. 53,5 тыс. – городского, 149,4 тыс. – сельского населения.
Территория республики делится на десять районов. Из 244 ее населенных пунктов 243 находится в сельской местности. В центральной, западной и южной частях республики преобладает алтайское население (Онгудайский, Усть-Канский, Улаганский, Шебалинский и Кош-Агачский р-ны); доля коренных жителей составляет ок. 33 %. Русские расселены преимущественно в северной части республики (Майминский, Чойский, Турачакский, Чемальский и юго-восточная часть Усть-Коксинского р-на) и составляют 63 %.
Образование в 1922 г. Ойротской, а в 1948 г. – Горно-Алтайской автономной обл. способствовало формированию устойчивых территориальных, экономических и культурных связей между различными этническими сообществами Алтая, которые сохранили свое языковое и культурное своеобразие.
В июле 1991 г. автономная область была преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику, в мае 1992 г. – в Республику Алтай. С начала 1990-х гг. на Алтае наблюдается рост этнического самосознания коренного населения. Идеи национального возрождения определяли направленность общественно-политического движения в республике. В середине 1990-х гг. среди 20 с лишним официально зарегистрированных организаций около половины составляли фонды, ассоциации, центры, отстаивающие социальные, экономические и культурные права коренного населения. Поиск моделей будущего был ориентирован на ценности традиционного образа жизни. Эти положе- ния нашли отражение в “Концепции национальных школ Республики Алтай” (1992 г.) и в законе “Об историко-культурном наследии народов Республики Алтай” (1994 г.).
“Концепция национальных школ Республики Алтай”, рассчитанная на 1992–2010 гг., главной задачей определяла “развитие национального общественного сознания за счет приобщения подрастающего поколения к духовным и культурным ценностям своего народа, понимания места и роли этих ценностей в мировой культуре; воспитание национального сознания, направленного на обогащающее взаимодействие наций и народностей при одновременном развитии своей национальной культуры, языка, самобытности; восстановление исторической памяти; воспитание чувства национальной гордости и самоуважения, чувства этнической самоидентификации” [Концепция национальных школ…, 1992, с. 3–4]. Образовательная программа, призванная создать оптимальную модель формирования культурного человека через обязательное усвоение традиционной национальной культуры и современное воспитание гражданина республики, опирается на концепцию “этнической личности” [Там же].
При актуализации этничности в самосознании титульного этноса акцентировалось знание родовой принадлежности. Родовые структуры алтайцев на протяжении многих эпох сохраняют свое значение в рамках сменявших друг друга потестарных и административно-политических образований.
Социальное устройство коренных сообществ Алтая имеет иерархический характер. Оно формировалось в рамках кочевых имперских структур Центральной Азии и корректировалось в ходе изменения политической и историко-культурной ситуации. В 1756 г. Коллегия ино странных дел Российского императорского двора издала указ о порядке приема “горных калмыков” Алтая в подданство России.
К этому времени на Алтае, по официальным данным, насчитывалось пять ясачных “дючин верноподданных калмыков” – административно-податных единиц, существовавших со времен владычества Джунгарии, и две чуйские двоеданческие дючины, позднее переименованные в волости. В структуре дючин выделялись роды (род – сеок – “кость”), которые объединяли большие семьи – патронимии, сохранявшие внутреннее единство.
Происхождение первых пяти дючин народная традиция связывает с пятью зайсанами – главами родов/ сеоков – кыпчак, иркит, тодош, мундус, принявшими российское подданство. Титул зайсана был транслирован в алтайскую среду вместе с системой управления западных монголов. Вхождение Алтая в состав России сопровождалось сохранением аутентичных поте старных структур (роды и дючины), которые были включены в систему податного налогообложения и управления империей.
Зайсаны – это выходцы из среды наиболее многочисленных сеоков, составлявших ядро административных единиц – дючин, а также волостей. Наибольшим авторитетом пользовались родовые (наследственные – “укту”) зайсаны. В конце XIX в. этот титул носили шесть алтайских зайсанов – зайсаны первой (сеок мундус), второй (сеок кыпчак), третьей (сеок тодош), четвертой (сеок иркит), пятой (сеок тодош) дючин и первой Чуйской волости (сеок тёлёс) [Октябрьская, 1997, с. 57].
В конце ХIХ в. насчитывалось семь алтайских дючин. Перепись 1897 г. зафиксировала у алтайцев 36 родов, входивших в различные административно-фискальные структуры. В конце XIX в. вторая дючина почти на 60 % состояла из кыпчаков, третья и пятая включали в основном тодошей, в четвертой почти 87 % приходилось на долю иркитов, шестая (выделившаяся из второй) на 84 % была представлена тёлёсами, в седьмой (выделившейся из пятой) 84 % составляли майманы (найманы). Более мелкие сеоки тяготели к многолюдным объединениям. Так, в четвертую дючину, кроме иркитов, входило еще 19 родов [Шерстова, 2005].
Устойчивость родов, лишенных экономической и территориальной целостности, определялась верой в единство происхождения и мифического прошлого; название рода превращалось в консолидирующий символ. Родовые структуры, основанные на принципах классификационной системы родства и патрилинейности, сохраняли экзогамию и авунку-лат, имели собственные святыни и сложную систему идентификационных маркеров (герой-первопредок, почитаемые гора и дерево, табуированная птица/ зверь, тамга и т.д.).
Представители одного сеока считались кровными родственниками. Каждый сеок дробился на несколько подразделений: кыпчак – кодончи, котон, ак, тужат, дият, сары, сурас, шодон; сагал – сары, могол, кара, ак, бай; кобок – ак, кара, тас, могол и т.д. Большинство сеоков, кроме тонжоон и иркит, было объединено в родственные группы; сеоками-побратимами считались: кыпчак, мундус, кергиль; родственными были сеоки: тодош, чапты, очы и т.д. [Тадина, 1995, с. 24].
Традиционные родовые институты играли большую роль в сфере этнического бытия. На протяжении столетий они оставались основой самоорганизации кочевого подвижного сообщества.
Функции рода заключались в поддержании социального единства через экономические и нормативные практики, историческую память и регулирование предпочтительных (кросскузенных) брачных связей. “В социальной жизни дореволюционного общества, – подчеркивает исследователь, – знание алтайца о своей принадлежности к определенному роду было исходным моментом, предопределившим право пользования данной промысловой территорией, экономическую взаимопомощь членов одного рода друг другу (например, в случае падежа скота, в период эпизоотий, при постройке дома, на сенокосе, при сборе средств для уплаты колыма за невесту, в устройстве свадьбы). Принадлежность к роду регламентировала отношение члена обще ства к окружающим его людям, к кровным и некровным родственникам” [Шатино-ва, 1981, с. 35].
В XIX и XX вв. в горно-степной зоне Алтая происходили “стягивание родов” и их укрупнение в границах дючин. Этому способствовала ограниченность территории дючин, а также растущее одновременно с гомогенизацией значение междючин-ных браков. Образование территориально-родовых группировок – “вторичных родов” – определяло процессы этнической консолидации в центральных районах Алтая. Наблюдалась политизация родовых и дючинных структур.
Особенности обустройства аборигенных сообществ Алтая в составе российского государства способствовали укреплению родовых начал во всех сферах их жизнедеятельности. Время показало, что родовая архаика отличалась высокой степенью адаптивности к изменению исторической, социальной, геоэтнополитической обстановки.
Конец ХIХ в. отмечен политикой унификации административной системы империи. В 1880-е гг. в управлении дючинами произошли изменения: по статусу зайсан приравнивался к родовому старосте; эта должность стала выборной; срок пребывания в ней ограничивался тремя годами. В алтайской среде это было воспринято как посягательство на древние устои. Одновременно развернулся процесс обособления дючин. На протяжении XIX в . алтайцы по джунгарской традиции собирались на съездах (шулганы) всех семи дючин.
Последний всеобщий съезд состоялся в 1886 г. в Усть-Кане [Шерстова, 2005].
К концу ХIХ в. единое междючинное самоуправление окончательно распалось. Сначала отделилась первая дючина в правобережье Катуни, освоенном русскими. Затем обозначились два центра этнополитической активно сти в левобережье: первый включал вторую, третью и четвертую дючины, образовавшиеся во времена перехода алтайцев в российское подданство; второй – пятую, шестую и седьмую дючины, лидерами которых стали представители новой алтайской знати, в т.ч. известные алтайские предприниматели братья Кульджины. Центры конкурировали друг с другом [Там же]. Конфронтация лидеров сдерживала процесс консолидации. Но, так или иначе, на основе стяжения вторичных родов, нивелировки культурно-хозяйственных различий и формирования диалектных особенностей в зоне Центрального Алтая в пределах кочевания шести дючин на территории, ограниченной долинами рек Чарыша, Кана, Ануя, Кеньги и Катуни, складывалась общность алтай-кижи, ставшая титульной группой алтайского этноса. Важным фактором, определившим ее единство, была национальная идеология, к 1904 г. воплотившаяся в форме национальной религии бурханизма – алтайской белой веры.
После провозглашения новых священных истин, снимавших проблему различия родовых культов, лидеры седьмой дючины – братья Кульджины – заняли пробурханистскую позицию, в противовес авторитету наследственных родовых зайсанов второй, третьей и четвертой дючин. Они претендовали на объединение всех дючин под властью “верховного зайсана”, вооруженного истинной (монотеистической) верой.
Консолидационный процесс развивался в эт-ноконфессиональной форме, но был прекращен в результате вмешательства административно-правовых структур, озабоченных проблемой межэтнических противоречий и сепаратизма, возникшей в связи с развитием реформационного религиозного движения на Алтае.
Судебный процесс над духовными лидерами бурханизма и дальнейшее социально-политическое развитие Алтая актуализировали принцип этнического и родового самоопределения коренного населения края. В начале XX в. выдающиеся представители первого поколения алтайской интеллигенции присоединяли название своего рода к собственному имени; стали известны фамилии: Тибер-Петров, Чо-рос-Гуркин, Чагат-Строев, Мундус-Эдоков [Шати-нова, 1981, с. 19].
С утверждением советской власти в 1920-е гг. алтайцы получили право на самоопределение в рам- ках национально-территориальной автономии. Противоречивость советской национальной политики, поддерживавшей различные формы автономизации и одновременно утверждавшей принципы интернационализма и унификации в ущерб этнической специфичности, в конце ХХ в. обернулась процессом суверенизации.
В постсоветское время в ходе этнополитической реструктуризации полиэтничного сообщества Алтая началось активное возрождение традиционных родовых структур. Обращение к родовой архаике стало фактором модернизации регионального этнического сообщества. Подобный принцип был впервые апробирован советской управленческой системой еще в 1920-е гг. Опыт ряда локальных администраций послужил основой для разработки “Временного положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР”, утвержденного Президиумом ВЦИК 26 октября 1926 г. После его принятия институт рода был легитимизирован в рамках советских политико-административных практик [Увачан, 1970, с. 17].
Создание органов власти на родовой основе в тот период, по мнению советских лидеров, подготовило переход народов Севера к созданию автономий по национально-территориальному и экономическому принципу. В декабре 1930 г. Президиум ВЦИК принял постановление “Об образовании национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера”. Это стало началом создания в регионе национальной государственности в советской редакции [Там же, с. 18–19].
Новый этап актуализации и политизации родовых структур пришелся на 1980–1990-е гг. и был связан с системными социально-экономическими преобразованиями в стране. Родовое движение в среде коренного населения Алтая возродилось в конце 1980-х гг., хотя принципы родового устройства устойчиво сохраняли здесь свою значимость, адаптируясь к различным социально-экономическим и политическим преобразованиям советского периода. В 1932 г. в разгар коллективизации на Алтае известный исследователь Л.П. Потапов писал: «Положительно во всех обследованных мною колхозах колхозники прекрасно знают о своей родовой принадлежности. Родовые деления знают даже трехлетние ребятишки, например в колхозе “Кызыл Тан” в урочище Толгуек маленькие мальчишки, называя свое имя, добавляют и название рода» [1932, с. 40]. Это знание оставалось актуальным и во все последующие десятилетия. Традиционный вопрос “соогин не?” (какого рода?) по-прежнему звучал на Алтае.
“Вследствие коренных изменений, происшедших после установления Советской власти, в экономической, политической, культурной жизни общества, – отмечала в 1981 г. автор известного исследования по проблемам семьи у алтайцев Н.И. Шатинова, – общность рода перестала быть наиболее важным фактором, определявшим все стороны быта и поведения людей. Однако принадлежность к определенному роду и в наши дни влияет на заключение брака среди алтайцев. <…>
В алтайском обществе идет процесс формирования новых брачных норм, которые соответствуют советскому законодательству, моральному уровню современной жизни. Ушли из жизни такие традиционные брачные нормы, как браки между близкими кровными родственниками, левират, сорорат, браки взрослой девушки с малолетними мальчиками, браки по договору родителей. Однако такое требование брачных норм, как соблюдение экзогамии, живет среди алтайцев. Оно проявляется в негативном отношении к нарушениям экзогамии” [1981, с. 35–36]. За соблюдение экзогамии при опросах среди алтайцев в конце 1970-х гг. высказывались 77 % мужчин и 79 % женщин [Там же, с. 38]. Род в общественном мнении был и остается институтом, обеспечивающим благополучие этноса.
Состоявшаяся в 1990–2000-е гг. общественная “реабилитация” родовых структур, сохранявших свое значение в повседневной жизни алтайцев, стала, кроме прочего, попыткой преодоления социального кризиса. По мнению исследователей, 1990-е гг. на Алтае, как и в целом в России, были отмечены дезорганизацией семейно-брачных отношений и развитием кризисной демографической ситуации. Социальные и экономические проблемы существенно ослабили институт семьи. Анализ статистики свидетельствует, что на протяжении 1990-х гг. в Республике Алтай происходили снижение брачности и увеличение разводимости, падение уровня рождаемости и рост смертности. Обращают на себя внимание повышение числа незарегистрированных браков, доли внебрачных рождений, снижение репродуктивных установок семьи, увеличение среднего возраста вступления в первый брак, трансформация традиционных стереотипов в семейных отношениях и т.д. [Женщины и мужчины…, 2001]. В этом контексте возвращение к традиционным социальным институтам рассматривалось в качестве способа противостояния деструктивным тенденциям современности. Легитимизация традиционных потестар-ных структур началась одновременно с распадом унитарной системы.
Летом 1989 г. впервые на Алтае в одном из урочищ Онгудайского р-на по инициативе старейшин был проведен праздник рода (сеока) майман. В газете “Звезда Алтая” за 1990 г. вышла заметка, объясняющая читателям роль родового института на современном этапе развития. “В урочище Текпенек
Онгудайского района 7 июля на свой первый родовой курултай майманы Горного Алтая пригласили многих гостей, представителей других сеоков, людей, хорошо известных в области, – говорилось в ней. – Своим человеком на родовом празднике май-манов был и Михаил Порфирьевич Щербаков, который все свои, почитай, девяносто лет прожил среди алтайцев. Нет, не дробить народ, а, наоборот, консолидировать его и помогать ему на основе родовых, семейных связей – вот главная задача современного сеока. Припасть бы и каждому из нас к таким же чистым источникам”.
На родовом съезде майманы выработали программу совета сеока, в которой значились такие направления, как помощь престарелым и немощным, воспитание молодежи в народных традициях нравственности, помощь правоохранительным органам, защита природы [Кузьмин, 1990, с. 4]. Затем свои съезды провели сеоки мундус, кыпчак, толос, иркит, тодош, с агал. В рамках движения, ставшего формой восстановления генеалогической и исторической памяти этноса и его самоорганизации в духе неотрадиционализма, возникли и были официально зарегистрированы ассоциации “Толостар”, “Мундустар” и “Оток сеока майман”. В 1990-е гг. некоторые сеоки были реорганизованы в общественные объединения или “партии рода”, например “Кергил-Берлик” и “Тодош” [Октябрьская, 1997, с. 52].
В своих программах ассоциации родов ставят задачи восстановления обычаев, традиций родовой взаимопомощи, решения проблем экологии, тесно переплетающихся с религиозными воззрениями алтайцев. Родовые организации работают над утверждением статуса культовых мест и родовых гор. Согласно воззваниям лидеров национального движения, родовые объединения должны способствовать “консолидации всех сил для культурно-духовного и экономического процветания исторической родины” [Казанцев, 2006, с. 217]. Авторы устава общественного объединения “Кергил-Бирлик” призывают членов своей организации участвовать в реализации программ, направленных на возрождение традиций и обычаев, промыслов и ремесел народов республики и отдельных алтайских родов. Речь идет о воспитании духовно сти и возвращении культ а древних божеств – Уч-Курбустана, Ультеня, Умай-эне, развитии семейно-межродовых отношений. Лидеры родового движения настаивают на сохранении памятников природы, археологии и древней культуры кочевников и изучении исторических и родовых захоронений на местах обитания сеока кергил и родственных ему сеоков. Актуальным является воспитание у людей чувства уважения к историческому прошлому и семейно-бытовым тради- циям, а также восстановление самобытности рода с его атрибутикой и тотемно-родовыми признаками [Там же]. Аналогично формулируют задачи и цели активисты объединения “Тодош”: защита политических, социальных, экономических, культурных прав, свобод и интересов представителей сеока тодош; сохранение этнической, историче ской и природной среды обитания алтайского народа; развитие языка, культуры; возрождение традиций, обычаев и вероисповедания.
Члены данных родовых объединений принимают активное участие в работе властных структур. Политизация является одной из основных тенденций в развитии родового движения. В законе Ре спублики Алтай “О ме стном самоуправлении в Ре спублике Алтай” (1999 г.) указано, что в компетенцию национально-родовых общин и органов их самоуправления в районах компактного проживания коренного населения входят: контроль за использованием земель на территории поселений и установление условий их использования; участие в охране окружающей среды; сохранение памятников истории и культуры, находящихся в ведении сельского поселения.
Вслед за этим законом в республике разрабатывается проект “Закона о родовой общине алтайцев”. Этот акт был призван установить основные принципы организации и деятельности родовых общин алтайцев и других этнических групп (родовых общин), создаваемых в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов коренных народов в условиях рыночной экономики. Он был призван определить правовые основы общинной формы самоуправления и государственные гарантии его осуществления, а также взаимоотношения с государственными органами самоуправления и общественными объединениями.
Родовая община алтайцев (сеок), согласно трактовке лидеров национального движения, должна стать самобытной и самоуправляемой формой организации граждан, семей, родов алтайцев и других представителей их этниче ских групп, объединяемых по кровнородственному и (или) территориально-соседскому признакам, общностью интересов. Создание родовых общин следовало поощрять в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренного народа. В настоящее время родовые структуры, не смотря на то, что процесс легитимизации приостановился, по-прежнему сохраняют свою актуальность в организации семейно-родственных отношений, являются первичным уровнем идентификации алтайского этноса.
В конце XX в. на Алтае в рамках восстановления престижного статуса рода был возрожден институт выборных зайсанов. Первым зайсана выбрал сеок майман. Активизация родового движения и рост авторитета зайсанов нового поколения способствовали повсеместному созданию на Алтае локальных советов родовых старшин. Адаптация традиционных потестарных структур к существующей административно-политической системе определила перспективы развития этнополитической ситуации в республике. В 1993 г. была создана общественная организация “Торгоо зайсанов Алтая”. Авторитет нынешних родовых старшин опирается на исторический опыт и статус 12 зайсанов, подписавших договор с Елизаветой о подданстве Российскому государству.
На проходившем летом 2006 г. в с . Ело го су-дарственном празднике Республики Алтай – Эл Ойыне, посвященном 250-летию вхождения Алт ая в состав России, тема великого исторического выбора была ведущей. Торжественная церемония открытия начиналась с театрализованного представления, главными героями которого были 12 зайсанов, в т.ч. главы современных алтайских родов. Символически обозначенная преемственность современной и исторической родовой элиты Алтая была призвана легитимизировать институт зайсанства и повысить его обшественно-политический статус. В рамках родового движения отчетливо обозначилась проблема формирования общенациональной идеологии. Популярным стало обращение к историческому прошлому, в котором современная Республика Алтай пытается найти ответы на вопросы настоящего.
Дирекция Института археологии и этнографии СО РАН, руководство научно-исследовательского стационара “Денисова пещера”, все участники фотопроекта выражают благодарность администрации Усть-Канского р-на Республики Алтай, а также главе и сотрудникам сельской администрации и жителям с. Яконур за поддержку и плодотворное сотрудничество.