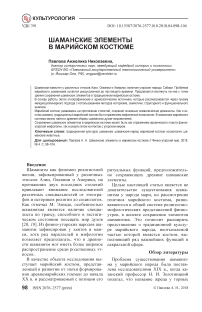Шаманские элементы в марийском костюме
Автор: Павлова Анжелика Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Шаманизм известен у различных этносов Азии, Океании и Америки, включая угорские народы Сибири. Проблема марийского шаманизма остается дискуссионной до настоящего времени. Предлагается взглянуть на нее с точки зрения сохранения шаманских элементов в традиционном марийском костюме. В основу работы легли этнографические и археологические источники, которые рассматриваются через призму междисциплинарного подхода с использованием методов историзма, семиотики, структурного и функционального анализа. Марийский костюм, развиваясь на протяжении столетий, сохранил основные символические доминанты. Как и костюм шамана, традиционный марийский костюм был отражением мифической космологии. В символике марийского костюма можно найти и древние образы шаманских духов-покровителей. Сохранение шаманских элементов в марийском костюме может быть как отражением архаического пласта финно-угорской мифологии, так и результатом контактов с угорским миром.
Традиционная культура, шаманизм, шаманский наряд, марийский костюм, космология, шаманские животные
Короткий адрес: https://sciup.org/147217897
IDR: 147217897 | УДК: 391 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.04.098-104
Текст научной статьи Шаманские элементы в марийском костюме
Шаманизм как феномен религиозной жизни, зафиксированный у различных этносов Азии, Океании и Америки, на протяжении двух последних столетий привлекает внимание исследователей различных специальностей от этнографов и историков религии до социологов. Как отмечал М. Элиаде, особенностью шаманизма является наличие специалиста по трансу, способного в экстатическом состоянии посещать мир духов [20, 10 ]. Из финно-угорских народов шаманизм зафиксирован у хантов и манси, хотя ряд параллелей в мифологии позволяет предполагать, что в древности шаманизм мог иметь более широкое распространение среди родственных этносов.
В качестве объекта исследования выступает марийский костюм, представленный в развитии от эпохи формирования древнемарийских племен до начала ХХ в. и рассматриваемый с позиции его ритуальных функций, предположительно сохраняющих древние шаманские элементы.
Целью настоящей статьи является не доказательство существования шаманизма у народа мари, но рассмотрение генезиса марийского костюма, развивавшегося в общей системе религиозномифологических представлений финно-угров, в аспекте сохранения элементов шаманизма. Это позволит расширить представление о традиционной культуре марийского народа, неотъемлемой частью которой является костюм, выполнявший ряд важнейших функций в сакральной сфере.
Обзор литературы
Проблема существования шаманизма у марийского народа была поставлена исследователями XIX в., когда казанский профессор Н. И. Золотницкий полагал, что название жреца у горных
98 ISSN 2076–2577 (print)
мари «мужан» ( мушан ) может восходить к «шаман»1, обратил внимание и на параллели в пантеонах мари и угорских народов Сибири2. Существование остатков шаманизма у мари предполагал В. М. Михайловский, отождествлявший марийского ворожца и знахаря с шаманом [10, 112–113 ]. Проблема шаманизма у мари не потеряла актуальности и в настоящее время [18; 22].
Р. А. Саберов, исследовавший генезис эндонимов, обозначавших служителей культа у мари, отмечал, что наряду со жрецами существовали и ворожцы, и сновидцы, игравшие важную роль в культовой практике [16, 147–148 ].
Марийский костюм, известный как по археологическим материалам, так и по этнографическим, с точки зрения сохранения элементов шаманизма не рассматривался исследователями.
Материалы и методы
Первые письменные свидетельства и зарисовки марийского костюма восходят к XVII–XVIII вв., работам А. Олеа-рия, Г. Ф. Миллера, И. Г. Георги, позднее их дополнили исследования А. Фукс, А. Ф. Риттих, И. Н. Смирнова, Т. Ев-севьева, Ю. Вихман, Н. И. Гаген-Торн, Т. А. Крюковой, Т. Л. Молотовой, рассматривавших костюм как важную часть традиционной культуры.
В изучении истоков марийского костюма важную роль сыграли археологические исследования Г. А. Архипова, Т. Б. Никитиной и других ученых, собравших обширный материал о древнемарийском костюме. Это позволяет представить марийский костюм как динамическую систему, развивавшуюся в рамках традиционной культуры, различные аспекты функционирования которой могут быть исследованы на основе междисциплинарного подхода с использованием методов историзма, семиотики, структурного и функционального анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Шаманизм – сложное явление религиозной жизни, которое может быть осмыслено с позиций различных научных направлений. Процессы выбора и подготовки шамана, организация шаманских камланий и техники экстаза неоднократно становились объектами изучения. Исследователи, занимавшиеся проблемами шаманизма, отмечали, что наряд играет чрезвычайно важную роль в шаманских переживаниях, которые не наступают, если шаман одет в будничную одежду [20, 84 ]. Процесс надевания наряда становится для шамана способом преодоления мирского пространства. Подобное отношение к костюму характерно и для традиционной марийской культуры.
Особой жреческой одежды у мари не сохранилось, хотя в XIX в., как указывал Н. И. Золотницкий, марийский «карт» и горно-черемисский «мужан» при проведении обрядов, как и сибирский шаман, облачались в особую ритуальную одежду, состоявшую из белого длинного балахона с красной (из кумача) нашивкой на груди и с черной (из сукна) позади, а также головного убора – высокой берестяной шапки3. Общим правилом было и отчасти остается использование этнического костюма во время молений. В середине ХХ в. на моления обязательно надевали одежду из домотканого холста, как сообщала Т. А. Крюкова4, это правило действовало и в марийской секте Кугу Сорта, религиозные убеждения участников которой предписывали отказ от всего иноэтничного [14].
В марийской культуре ритуальный костюм, а таковым можно считать одежду, предназначенную для молений, как и костюм шамана, был средством перехода из профанного в сакральный мир. Однако в отличие от шаманской традиции требования предъявлялись ко всем участникам молений, которые таким образом гото-
® КУЛЬТУРОЛОГИЯ вились к общению с богами. Несколько выше они были для жрецов-картов, в связи с чем следует упомянуть о рубахе карта, которую, по сообщению Крюковой, изготовляли всем миром5. Этимология данного обычая не совсем понятна. Сколько-нибудь близкие аналогии можно найти у румын и балканских славян (болгары, сербы и др.), где существовал обычай изготавливать за ночь рубаху для защиты жителей поселения от болезней. В ее прядении, ткачестве и пошиве участвовали семь или девять женщин (девушек, старух, вдов) [3, 333–336 ]. Особые свойства рубаха приобретала благодаря участию всего мира, как и в случае с румынскими и южнославянскими рубахами, однако каковы были эти свойства можно лишь предполагать.
У народов, сохранивших шаманизм, было принято передавать шаманский наряд по наследству, так как считалось, что, если он покинет пределы рода, это может причинить вред всей общине, и объяснялось насыщенностью шаманского наряда духами, с которыми другой человек может не совладать [20, 85]. В марийской культуре сходные представления были связаны с женским костюмом, что нашло отражение в обычае надевать на покойницу подвенечную рубаху и свадебный головной убор, а рубаху, в которую облачалась невеста на второй день после свадьбы, надевать женщине, замещавшей покойницу на поминках сорокового дня. Н. С. Попов отмечал: «Вещи, сопровождавшие невесту, во время свадьбы были воплощением ее души, жизненных сил. В то же время свадебное платье и украшение символизировали связь покойницы с миром рода, где она родилась. Они становились своего рода – знаком-пропуском в мир кровных родственников» [15, 144–145]. У ряда этносов, сохранивших традиции шаманизма, было принято после смерти шамана оставлять его наряд, как и предметы, использовавшиеся во время камлания, рядом с гробом [20, 85]. Женский этнический костюм отличается наибольшей устойчи- востью, поэтому он мог быть транслятором древних религиозно-мифологических представлений, которые уже не имели вербальной или какой-либо другой формы выражения.
Именно женский костюм у мари обладал максимальной семантической емкостью, воплощая космологические представления, что свойственно и наряду шамана. В системе этнической космологии мари может быть рассмотрен и наряд жрецов-картов: черная нашивка на спине свидетельствует, что эта часть тела обращена к потустороннему миру. У шаманов нередко на спине помещались знаки Луны или «отверстия солнца», точнее земли с центральным отверстием, через которое шаман попадает в преисподнюю [20, 86 ]. Кафтан карта воспроизводит горизонтальную проекцию вселенной, в древности распространенную у финно-угорских народов, основным космологическим ориентиром в данной модели была ось Юг– Север. На Севере, который маркировала черная нашивка, в шаманской традиции располагался вход в нижний мир, подобная цветовая символика сохранилась в культуре нганасан [4, 184 ]. Головной убор из бересты, использовавшийся картами, можно сопоставить с женскими головными уборами на берестяной основе, такими, как шурка у мари [11, фото 10 ] или панго у мордвы [2, 147 ].
Включение элементов женского костюма также является одной из особенностей наряда шамана. Так, на одежде якутских шаманов на груди были пришиты большие круглые бляшки, символизировавшие женские груди [20, 85], что подтверждает изоморфность женщины космосу. Хотя системы соответствий человек – вселенная получили полное развитие в великих цивилизациях, как полагал Элиаде, их истоки уходят в первобытные общества, где встречаются чрезвычайно сложные системы антропокосмических уподоблений [19, 333]. Человеческое тело и его части являют систему отношений, косвенно выражающих все прочие пространственные системы и элементы пространства, что отмечал и Э. Кассирер [21, 90–91]. Подобная система выстраивалась с помощью ша- манского наряда, представляющего собой «религиозную космографию» [20, 85], она же воспроизводилась в символической системе женского костюма мари.
В наряде хантыйских шаманов параллели с женским костюмом выглядят более очевидными. В. Кулемзин описывает наряд шамана Афанасия Милимова: шапка из шкур выдры и горностая с неким подобием хвоста, свисающего на спину, к которой прикреплены изображения лиц; нагрудник, назадник из оленьих камусов, украшенная бисером обувь [7, 64–65 ]. Длинные женские нагрудники из бисера входили в костюм мансийских шама-нов6. У тюркоязычных народов Средней Азии шаманы носили женское платье [1, 95 ], что объясняется связью шаманских практик с ритуальным изменением пола7.
Следует отметить, что женские черты характерны для верховного марийского бога Юмо [18, 70 ] и удмуртского бога плодородия Калдысина, чье имя созвучно угорской Калтащ8.
Можно предполагать, что включение женских украшений в мужской наряд, наблюдаемое в ряде захоронений, например в погребении 5 Веселовского могильника [12, 12–13 ], является показателем социального статуса мужчины, возможно связанного с культовыми практиками. О высоком социальном статусе погребенного говорят поясной набор, включающий две сумочки, а также расшивка одежды. С нарядом шамана можно соотнести нагрудник, украшенный многочисленными шумящими привесками и подвесками арочной формы, а также кожаные подвески к поясу [12, рис. 19 , 2 ; 21, 20–21 ], которые можно сравнить с назадниками хантыйского шамана.
В описании А. П. Мазиным кафтана эвенкийского шамана И. И. Яковлева отмечено, что в центре располагался символ верхнего мира в виде головы лося, рядом круг, символизировавший солнце, а также фигурки медведей, духов-помощников верхнего мира [8, 68]. На нагруднике из погребения 5 Веселовского могильника представлены подвески арочной формы, которые Л. И. Липина предлагает рассматривать как образ берлоги/пещеры9. Арочную форму украшений можно связать с образом не только медведя, но и головы лося, выступавшего как воплощение вселенной, например азелинские арочные нагрудники [13, 69–71]. О том, что данные подвески представляют собой космологическое украшение, свидетельствует использованная в их декоре солярная символика, например образ трех солнц, имеющий аналоги в азелинских нагрудниках. Привески-цепочки можно сравнить с небесной цепью, по которой медведь поднимался на небо [9, 83], в шаманизме цепь – символ силы и выносливости шамана [20, 86]. К сожалению, в рассматриваемом погребении не сохранился головной убор, являвшийся важной частью наряда. Однако имеющийся материал позволяет предполагать, что статусные, символически емкие элементы мужского костюма имели аналоги в женском, который выступая развернутой космологической схемой, создавался в той же семантической традиции, что и шаманский наряд.
В костюме угорских шаманов хорошо просматриваются звериные черты, например шаманские рукавицы изготавливались из шкуры, снятой с медвежьей лапы вместе с когтями, а обувь шамана имела головку из камуса медведя, также снятого вместе с когтями, и подошву из оленьей или лосиной кожи [7, 64–65 ]. При выборе материала руководствовались представлениями о духах-помощниках, в роли которых выступали медведь и лось. Шаман в таком костюме становился аналогом первопредка, соединявшего в себе человеческую и звериную природу.
Элиаде полагал, что птица, олень и медведь составляют три главных типа шаманского облика [20, 87 ]. Птичьи черты, характерные для костюма шамана, позволяют ему подняться на небо и совершать путешествия в мире духов [20, 86 ]. Водоплавающая птица – один из архаичных персонажей финно-угорской мифологии, у истоков марийской космогонии находится праматерь-утка [5, 17 ]. Образ водоплавающей птицы получил широкое распространение в марийском женском костюме: вышивка нагрудной части женских рубах [6, 22–23 ], подвески в форме птичек, входившие в состав ожерелий древнемарийских женщин и широко распространенные на рубеже I – II тыс. н. э. у финно-угров Поволжья подвески в форме утиных лапок [12, рис. 52 , 9 ; 22, 104 , 2 ]. Птичья символика воплощена и в наплечных платках женщин-поезжанок на марийской свадьбе [7, 75 ]. В свадебной песне восточных мари есть такие слова [5, 87 ]:
«Надев серебряные крылья, Запрягши серебряного коня, Мы приехали к вам за невестой».
Семантика образа утки в финно-угорской традиции одна из наиболее сложных, его появление в декоре женского костюма, особенно свадебного, сопряжено с идеей плодородия. Однако согласно мифологии утка обладает способностью пересекать уровни, т. е. существовать в различных мирах [13, 60–62], что сближает ее с птицами, выступающими в роли духов-помощников шамана. Как отмечал А. М. Сагалаев, нагрудники шаманов имитировали грудь птицы [17, 117], но в финно-угорской традиции, в том числе в марийской, грудь, пазуха, подмышки связаны и с представлениями о сакральном, рождающем верхе [5, 20; 17, 56]. Таким образом, происходило переосмысление древних символов, они приобретали новые значения в соответствии с менявшимися условиями жизни этноса.
Заключение
Религиозные представления народа мари не сохранили пласт шаманских верований. Однако марийский костюм различных исторических периодов и связанные с ним обряды и обычаи свидетельствуют о существовании элементов шаманизма, параллелей с шаманскими представлениями и практиками. Существование шаманских элементов в культуре марийского народа можно объяснить как сохранением глубинных архаических пластов, восходящих к эпохе финно-угорского единства, так и контактами с угорским миром, где шаманизм существует до настоящего времени.
Список литературы Шаманские элементы в марийском костюме
- Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. Москва: Наука, 1992. 324 с.
- Белицер В. Н. Народная одежда мордвы: тр. Института этнографии Академии наук СССР. Москва, 1972. Вып. 3, т. 101. 196 с.
- Голант Н. Г. «Рубаха чумы» и другие румынские мифологические представления, связанные с рубахой // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 14-й междунар. науч. конф. / под ред Н. М. Калашниковой. Санкт-Петербург: СПГУТД, 2011. С. 333-337.
- Грачева Г. Н. Культурный комплекс нганасан // Материальная культура и мифология. Ленинград, 1981. С. 158-175. (Сб. МАЭ; Вып. 37).
- Калиев Ю. А. Мифологическое сознание мари. Феноменология традиционного мировосприятия. Йошкар-Ола: Изд-во Мар. ун-та, 2003. 216 с.
- Крюкова Т. А. Марийская вышивка / МарНИИЯЛИ, Гос. музей этнографии народов СССР. Ленинград, 1951. 194 с.
- Кулемзин В. О хантыйских шаманах. Тарту: ЭЛМ, 2004. 210 с.
- Мазин А. П. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX - начало ХХ в.). Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. 200 с.
- Мифы, предания, сказки хантов и манси / под общ. ред. Е. С. Новик. Москва: Наука, 1990. 568 с.
- Михайловский В. М. Шаманство: сравнительно-этногр. очерки. Москва: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1892. Вып. 1. 115 с.
- Молотова Т. Л. Марийский народный костюм: моногр. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1992. 112 с.
- Никитина Т. Б. Погребальные памятники IX - XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани, 2012. 408 с. (Сер. «Археология Евразийских степей»; Вып. 14).
- Павлова А. Н. Семантика древнемарийского костюма. Йошкар-Ола: Мар. гос. техн. ун-т, 2008. 200 с
- Попов Н. С. Религиозные верования // Марийцы: историко-этногр. очерки / МарНИИЯЛИ. Йошкар-Ола, 2005. С. 228-236.
- Попов Н. С. Экспедиционная работа Т. А. Крюковой среди марийцев в 60-х годах ХХ в. // Проблемы этнографии, истории и культуры марийского народа. АЭМК: сб. ст. / МарНИИЯЛИ. Йошкар-Ола, 2007. Вып. 29. С. 136-146.
- Саберов Р. А. Эндонимика служителей культа традиционной религии мари XVIII-XXI вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. Тамбов: Грамота, 2016. № 3 (65). Ч. 1. C. 145-149.
- Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология. Символ и архетип. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 155 с.
- Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари: моногр. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2003. 208 с.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Москва: Ладомир, 2000. 414 с.
- Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза / пер.: К. Богуцкий, В. Трилис. Киев: София, 2002. 480 с. URL: http://volkstay.com/biblioteka/1/shamanism.pdf (дата обращения: 26.05.2018).
- Cassirer E. Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 2. Mythological Thought. New Haven: Yale University Press, 1955. 347 p.
- Hoppál M. Uralic Mythologies and Shamans. Budapest: Institute of Ethnology, 2010. 185 р.