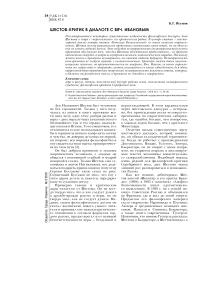Шестов-критик в диалоге с Вяч. Ивановым
Автор: Исупов Константин Глебович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Стратегия дискурса
Статья в выпуске: 3 (40), 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые существенные особенности философского дискурса Льва Шестова в споре с «персонажами» его критических работ. В центре статьи - эпистолярный диалог автора статьи «Вячеслав Великолепный» со своим великим современником. Шестов весьма рационально продумывал композиции своих вещей, но ни одна из них не имеет глубокой точки. Это свойство незавершенности (незавершимости) ученого трактата обусловлено тем, что для Шестова обсуждаемая проблематика - не предмет кабинетных штудий, а вопросы внутрижизненного, онтологического порядка. Поскольку живая жизнь в принципе незавершима, все ответы отданы будущему. Незавершимость (нон-финито) не следует путать с неоконченностью. Трактат может быть композициционно закончен, но архитектонически не завершен. Вяч. Иванов, со своим стремлением все закруглить и завершить, охотно соглашается со своим собеседником; для обоих корреспондентов прототипом творческой незавершенности является готика, которая, в отличие от романского стиля, в принципе не способна к завершению.
Вера и разум, готика, полемический дискурс рубежа веков, стилистика незавершенного суждения, философская критика серебряного века
Короткий адрес: https://sciup.org/140223905
IDR: 140223905 | УДК: 1+7.01
Текст научной статьи Шестов-критик в диалоге с Вяч. Ивановым
Исупов К.Г. Шестов-критик в диалоге с Вяч. Ивановым // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 3. – С. 34–36.
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016
Лев Исаакович Шестов был человеком не без странностей. Только у него получалось из книги в книгу протяжно вести одну ноту, одну тему: распря разума и веры – двух неразлучных антагонистов его беспокойного ума и его сердца, взыскующего покоя в Истине. То со смешочком, то с отчаянием в голосе он показывает масштабы и горизонты вечного конфликта логики и чувства, не доверяя до конца ни первой, ни второму: вся мировая философия была ему свидетельством тщеты примиренчества на этом пути [3].
Он был добрым ироником и лукавым сократическим человеком, с людьми он общался с неизменной улыбкой и мудрой искоркой в глазах. Только Шестов, сын суконщика и знаток Пятикнижия, мог додуматься подарить православному попу отцу Сергию Булгакову кусок сукна на рясу. Смущенный Булгаков не знал, что ему с этим даром делать и, кажется, передарил кому-то суконную штуку.
Примерно таковы и критические дары читателю от Шестова. Он не всегда твердо знал, что и как следует думать о дружбе-вражде разума и веры, но он твердо знал, как не следует думать. Видимо, своим философическим долгом он считал воспитание нового умного читателя и прививал ему навыки критического отношения к готовым формулам гордого разума, предостерегал и от наивной безответственности веры – бездумной и нерассуждающей. В этом кардинальная черта шестовского дискурса – осторожно, без принуждения вести человека-современника по сократическим лабиринтам, где ошибок больше, чем поворотов, а ложных ходов больше, чем у критского Минотавра.
Отметим весьма существенную черту шестовского дискурса, которой, возможно, он обязан талмудической герменевтике. Когда он работает с произведениями Достоевского, Ницше, Толстого, Лютера, Кьеркегора, он не спорит с ними напрямую, но старается вскрыть в анализируемых текстах механизмы концептуального саморазоблачения. Подобный подход, очень редкий для философской критики Серебряного века, дает Шестову повод лишний раз разочароваться в возможностях Разума.
Как все помнят, дебютировал Шестов книгой «Шекспир и его критик Брандес» (1898); в 1905 г. напечатал «Апофеоз беспочвенности (опыт адогматическо-го мышления)». В 1920 г. он с семьёй покинул Советскую Россию и обосновался во Франции, где и жил до своей смерти. Предметом его философского интереса стало творчество Парменида и Плотина, Лютера и средневековых немецких мистиков, Паскаля и Спинозы, Кьеркегора, а также своего современника Гуссерля. Напомним, что именно Гуссерль рассказал Шестову о Кьеркегоре, а Шестов поведал о том читавшему все подряд, но Кьеркегора не знавшему, Бердяеву.
Шестов общался с Э. Гуссерлем, К. Леви-Строссом, М. Шелером, М. Хайдеггером, читал в Сорбонне лекции.
Нас здесь будет интересовать сюжет «Шестов / Вяч. Иванов».
Принято считать, что отношения Шестова с Ивановым прошли три больших этапа. Первый связан с сотрудничеством обоих в новых журналах эпохи: почти параллельно Шестов печатает в «Мире искусства» «Философию трагедии» (1902), а Иванов – «Эллинскую религию страдающего бога» (1904) в «Новом пути». До 1910 г. Шестов пребывает за границей и в Киеве, что не мешает ему наезжать в Петербург, посещать Башню и участвовать с Ивановым в общих сборниках. Так, во второй книжке «Факелов» (1907) первый публикует «Похвалу Глупости», а второй – «О любви дерзающей»; оба при этом – постоянные сотрудники «Вопросов жизни» (1905). Второй этап – это 1914–1917 гг., когда Шестов после четырехлетнего швейцарского жития переезжает в Москву, и мы видим его в тесном окружении таких славных людей, как С. Булгаков, В. Эрн, Н. и Л. Бердяевы. На этот период и пришлись доклад, а затем статья о Вячеславе Великолепном. Остальное время общения двух мыслителей охвачено эмигрантским периодом и обменом эпистолярными репликами [4].
Со(противо)поставлениие фигур Иванова и Шестова традиционно строилось по вероисповедной и культуроисповедной осям: «византиец и иудей» (по концептуальному заглавию статьи Ландау, 1921). Добавим к этой антитезе еще один нюанс: внутренней интенцией духовных архитек-тоник Иванова была чеканная формула, прекрасная в своей завершенности, как канон Поликлета. Впрочем, при исполнении ее Иванов мог использовать и приемы Прокруста.
Мировоззренческие конструкции Шестова, что воздвигались на базе «адогмати-ческой» апофатики, в принципе не могли завершиться в рамках жесткой нормированной логики. Отсюда ненависть Шестова к Канту с его неальтернативной таблицей антиномий (недаром о. Павел Флоренский на магистерском диспуте сказал о Канте: «Столп злобы богопротивныя»).
Поздравляя Шестова с 70-летием, Иванов пишет о людях, для которых дело жизни в духе признается «не сделанным и незаконченным <...> но <...> определившимся в основных чертах, как, примерно, готический собор, похожий в своей недо- строенности на прерванное сновидение»: далее идет антитеза: «...я сам, всю жизнь стремившийся к законченным формам» / шестовское апофатическое исповедание», которому в письме вменен «транцензус всякой формы к вящей славе Божией» (в оригинале на латыни) [4, с. 431–432].
Иванов нашел точное слово для характеристики шестовского стиля мышления: готика не способна завершиться в законченной форме, в отличие от романской архитектуры. «Возвышенной истерией» и «логическим безумием» назвал готику В. Воррингер в книге «Formprobleme der Gothik» (Мюнхен, 1927). Ответ Шестова был таков: «...все же мы, смертные, конечные люди, и ищем здесь, на отмели времен, и законченных форм», а далее чуть ли не излагает свою книгу о Кьеркегоре, у которого Шестов встретил «такое же понимание транцензуса»: «Киргергард от Гегеля пошел к частному мыслителю, Иову и от греческого симпосиона к Аврааму»; сообщается попутно, что печатается его новая книга «Афины и Иерусалим» [4, с. 432].
Вот и в современной диссертации встречаем мы все то же: «Шестов (= Иерусалим) / Иванов (= Афины)»: «Они олицетворяли собой соответственно Иерусалим и Афины и были столь противоположны как личности и мыслители, что избежать некоторого противостояния им было невозможно. Насколько был утончен, элитарен, сложен, двойственен, «великолепен» и многообразен поэт Вяч. Иванов, настолько прост, мудр и глубок, не менее блестящ и образован был философ Шестов. При всех похвалах творческому гению поэта, Шестов не скрывает иронии по отношению к нему, когда говорит о «едином миросозерцании» Вяч. Иванова, совершенно отличном от других, об утончённости фразеологии, тяге к греческой трагедии и св. Писанию. Шестову претит вычурность, элитарность и особенно выставляемая напоказ эрудиция. Литературное высокомерие Вяч. Иванова является оборотной стороной его страха перед простотой и понятностью, которых он всячески избегает. С точки зрения Шестова, Иванов болен болезнями элитарности, с одной стороны, и «общепризнанности» – с другой. От него за всей этой сложностью многознания ускользает подлинность бытия, непосредственное взаимодействие между человеком и миром.
Другими словами, Вяч. Иванов – это человек, пораженный «всемством», тот, против которого восстал и Шестов, и сам Достоевский, одномерно понятый Вяч.
Общество
Ивановым и как бы по недоразумению ставший его кумиром. Вяч. Иванов стремился, по его собственному признанию, принадлежать к «общепризнанной» школе Достоевского, к той «культурной сложности», великим зачинателем которой был Фёдор Михайлович. Его неуёмным стремлением было создание положительного, все объясняющего миросозерцания, исключающего всякую возможность противоречивых и многосложных ответов. Шестов к такому мировоззрению, исчерпывающему и дающему ответы на все вопросы, относит марксизм. С его саркастической точки зрения, только марксисты и Вяч. Иванов, несмотря на все их различия и идейную отдалённость друг от друга, демонстрируют поразительное по своему сходству общность: “потребность дать исчерпывающие ответы”» [2, с. 214].
Афино-иерусалимская огласовка оппозиции ‘Иванов / Шестов’, предъявленная в статьях и мемуарах Бердяева, Ландау, Адамовича и др. стала популярной [1; 5].
Добавим к сказанному, что дружба двух мыслителей не дошла до «дружбы=вражды», как у Белого и Блока, потому что у обоих хватило такта и диа- логической веротерпимости: они точно чувствовали черту, за которой кончается взаимопонимание. Как только возникала угроза перейти эту границу, вся патетика спора испарялась и травестировалась в шутовских интонациях. В конце статьи «Вячеслав Великолепный» Шестов охотно принимает им же сочиненный образ Иванова в дедовском, расшитым золотом камзоле и в пудреном парике, а Иванов через 20 лет хитровато парирует: «...если строить культуру с Вами нельзя, то нельзя ее строить и без Вас, без Вашего голоса, предостерегающего от омертвения и гордыни. Вы похожи на ворона с мертвой и живой водой» [4, c. 432].
Согласимся, что с приведением антиномии ‘Афины / Иерусалим’ в вид ‘парик / ворон’ – серьезный разговор уже невозможен. Остаются встречные грустные улыбки двух немало поживших и всякого повидавших милых старичков.
Многолетняя дружба и открытый городу и миру диалог вокруг центральных проблем гносеологии и онтологии заслуживает самого пристального внимания исследователей и монографического освещения.
Список литературы Шестов-критик в диалоге с Вяч. Ивановым
- Девидсон П. Афины и Иерусалим: две вещи несовместные? (Значение идей Вяч. Иванова для современной России)//Вяч. Иванов. Исследования и материалы. -СПб., 2010. Вып. 1. -С. 65-72.
- Лашев В.В. Метафизика русской литературы Льва Шестова/Дисс.... д. филос. н. -М.: МГУ, 2011. -351 c.
- Лев Исаакович Шестов/Под ред. Т.Г. Щедриной. -М.: Политическая энциклопедия, 2016. -463 с.
- Пирон Женевьева, Шишкин А.> Иванов -Шестов//Символ. -Париж-Москва. -2008, № 53-54. -С. 421-434.
- Сычева С.Г. Лев Шестов и Вяч. Иванов -великолепие упадка//Известия Томского Политехнического унив-та. Т. 317. -2010, вып. № 6. -С. 97-100.