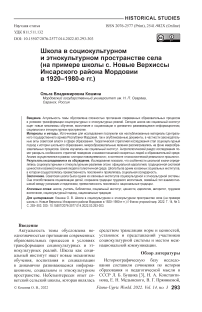Школа в социокультурном и этнокультурном пространстве села (на примере школы с. Новые Верхиссы Инсарского района Мордовии в 1920–1980-е гг.)
Автор: Ольга Владимировна Кошина
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность темы обусловлена сложностью протекания современных образовательных процессов в условиях трансформации социокультурных и этнокультурных реалий. Сегодня школа как социальный институт ищет новые механизмы обучения, воспитания и социализации в динамично развивающемся информационном, социальном и этнокультурном пространстве. Материалы и методы. Источниками для исследования послужили как неопубликованные материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия, так и опубликованные документы, в частности законодательные акты советской власти в сфере образования. Теоретической стратегией исследования стал социокультурный подход к истории школьного образования, микрообразовательные явления рассматривались на фоне макрообразовательных процессов. Школа изучалась как социальный институт. Антропологический ракурс исследования помог раскрыть особенности стратегий поведения и взаимоотношений конкретных людей в образовательной среде. Анализ осуществлялся в рамках «истории повседневности», в контексте «психологической реальности прошлого». Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что особенности школьной жизни определялись социокультурными и этнокультурными реалиями эпохи: официальной идеологией, традиционной системой ценностей и взаимоотношений людей в полиэтничной среде. Школа была одним из важных социальных институтов, в котором осуществлялась преемственность поколений и проявлялась социальная солидарность. Заключение. Советская школа была одним из ключевых институтов социокультурной и этнокультурной системы. Она способствовала социализации детей, сохраняла традиции трудового воспитания, семейный тип взаимоотношений между учениками и педагогами, преемственность поколений и национальные традиции.
Школа, учитель, библиотека, социальный институт, ценности, идеология, авторитет, трудовое воспитание, социокультурный подход, национальные традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/147237806
IDR: 147237806 | УДК: 811.511.132 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.03.293-303
Текст научной статьи Школа в социокультурном и этнокультурном пространстве села (на примере школы с. Новые Верхиссы Инсарского района Мордовии в 1920–1980-е гг.)
Актуальность темы обусловлена неоднозначностью протекания современных образовательных процессов в условиях трансформации социокультурных и этнокультурных реалий. Школа как социальный институт ищет новые механизмы обучения, воспитания и социализации в динамично развивающемся информационном, социальном и этнокультурном пространстве. Небезынтересен опыт советской сельской школы, которая являлась средством трансляции норм и ценностей, установок и представлений участников социокультурной системы и местом межнациональной коммуникации.
Обзор литературы
Историографическую базу исследования составили сочинения по истории образования и педагогической мысли в СССР Л. Б. Бущика [3], Н. А. Константинова, Е. Н. Медынского, В. Г. Пряниковой,
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
В. Г. Торосян1 и др. В монографии «Советская школа в 1950–1960-е годы» Г. М. Иванова рассматривает образовательную политику СССР и проблему «ученик и учитель в школе и дома» в контексте социальной истории [5]. В. А. Ракуновым раскрываются особенности становления общеобразовательной школы в СССР в 1920–1930-е гг. на основе законодательных документов советской власти [13]. Д. В. Колыхалов изучает этапы введения всеобщего обязательного начального обучения в Советской России в 1923–1941 гг. [7]. О. М. Тамбовский анализирует противоречивый путь развития советской школы: «от надежд и утопических мечтаний первых послереволюционных дней через экспериментаторство 1920-х гг. к восстановлению академических начал в 1930–1960-е гг.» [16, 339 ]. Е. Ю. Быкова раскрыла организационные и идеологические аспекты реформирования системы школьного образования в СССР в 1917–1930 гг. [4]. И. И. Логвинов проанализировал современные психолого-педагогические проблемы в контексте истории российской школы [10].
В анализе региональных аспектов развития школьного образования были полезны исследования по истории образования в Мордовии Г. А. Куршевой и Р. А. Шепелева [8; 17].
В работах названных выше исследователей не раскрыт полностью вопрос о роли школы в социокультурном и этнокультурном пространстве села, что и определило цель настоящей статьи. Задачами работы стали анализ роли школы в трансляции официальной идеологии; исследование ее места в поддержании социальной солидарности и преемственности поколений; изучение функций школы в сохранении родного языка и традиций, семейных ценностей и трудовой этики.
Материалы и методы
Источниками для исследования послужили как неопубликованные материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия (Ф. р-139 «Протоколы заседаний исполкома сельсовета c. Новые Верхиссы»; Ф. р-1988 «Фонд Инсарского РОНО»), так и опубликованные документы, в частности законодательные акты советской власти в сфере образования2.
Ценная информация об истории ново-верхиссенской школы (фотографии учителей, учеников, фото здания школы; приказы по школе; протоколы заседаний педсовета) получена из музея МБОУ «Но-воверхиссенская средняя общеобразовательная школа». Атмосферу времени, особенности взаимоотношений учителей и учеников, подробности повседневной школьной жизни в 1920–1980-е гг. помогли реконструировать воспоминания жителей села, записанные авторами коллективной монографии «Село Новые Верхиссы: 300 лет в истории России» в ходе полевых исследований в 2019 г. [15].
Теоретическую базу исследования составил социокультурный подход к истории образования. Сформировать его помогли монографии и статьи по социокультурной динамике [1; 6] и по «истории повседневности» [2; 9; 11; 12; 14]. В русле данного подхода школа выступает социальным институтом, который играет ключевую роль в социализации детей, служит инструментом формирования ценностных установок, площадкой межнационального взаимодействия.
Образовательные явления в конкретной сельской школе рассматривались на фоне образовательных процессов в стране в целом. С помощью полевых исследований (опрос 2019 г. жителей и уроженцев Новых
Верхисс о школе) был осуществлен анализ в рамках «истории повседневности» в контексте «психологической реальности прошлого».
Антропологический ракурс исследования позволил глубже проникнуть в систему отношений между субъектами образования, раскрыть особенности стратегии поведения конкретных людей в рамках образовательной парадигмы, представить человека в качестве главного участника, творца и потребителя системы образования.
Результаты исследования и их обсуждение
Согласно архивным документам, уже в 1895 г. в мокшанском селе Новые Верхис-сы в церковной сторожке работала церковно-приходская школа. Однако датой официального открытия школы назван 1910 г.3 К этому времени было построено специальное деревянное здание для школы и она была отделена от церкви.
Советская власть с первых лет существования прилагала усилия к развитию массового школьного образования. Положение о единой трудовой школе РСФСР 1918 г. вводило девятилетнюю школу двух ступеней: первая ступень – для детей от 8 до 13 лет (5-летний курс обучения), вторая – для детей от 13 до 17 лет (4-летний курс обучения)4. По данным за 1925 г., «в селе Новые Верхиссы работает школа первой ступени, в которой учительствуют 2 женщины: русская и мордовка»5.
Положение о единой трудовой школе подтвердило ранее принятые декреты о совместном обучении, бесплатной светской школе и провозглашало всеобщее обязательное обучение. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» обязывал все население от 8 до 50 лет обучаться грамоте на родном или русском языке6.
В 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении»7. Оно вводилось для детей 8–10 лет в объеме 4 классов. Из отчетов школ Инсарского района за 1934 г. известно, что в школе первой ступени в Новых Верхиссах учились дети с 1 по 4 класс. Школа имела два здания: специализированное и приспособленное. Школьная библиотека насчитывала 720 книг. Октябрят, пионеров, комсомольцев в школе не было. Преподавание велось на мокшанском языке8.
В 1920–1930-е гг. национальная политика Советского государства была направлена на сохранение и развитие национальных традиций, языка и культуры народов СССР. С 1924 г. массовыми тиражами стали издаваться учебники для мордовских, марийских, татарских и чувашских школ [8, 4 ]. С образованием в 1934 г. Мордовской АССР в селах с мордовским населением вводилось обучение на родном языке.
В 1934 г. в нововерхиссенской школе обучалось 123 ребенка. За год из стен учебного заведения выбыли 19 чел., на второй год остался 21 чел. Бюджет школы составлял 8 362,5 руб., в том числе 70 руб. собственных средств (от мастерской и хозяйства). Имелось оборудование на сумму 15 руб. На питание учащихся тратилось 70 руб. На заработную плату учителей уходило 5 612,5 руб.9
Школа в Новых Верхиссах иллюстрирует типичные проблемы сельской школы 1930-х гг. Выбывшие и оставшиеся на второй год ученики составляли почти треть всего состава обучающихся. Трудности сельского быта, необходимость помогать родителям по хозяйству и уходу за младшими детьми снижали успеваемость и вынуждали многих детей оставлять школу. Наличие мастерской и собственного хозяйства – тоже обычное явление для сельского учебного заведения в эти годы. Дети с ранних лет приучались к труду, а школа имела
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ возможность получать небольшой доход от реализации произведенного в мастерской и в собственном хозяйстве. Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 13 июля 1936 г. сельским школам выделялись пришкольные участки для проведения практических занятий, экскурсий и ботанических опытов10.
В 1935 г. население Новых Верхисс составляло 1 560 чел. (280 дворов). Школа была прикреплена к колхозу. В колхозном амбаре для нее лежали: овес – 2 пуда 32 фунта, просо – 2 пуда 32 фунта, пшено, соль, лук и растительное масло11. В то время в школе работали 6 учителей: мужчин и женщин поровну. Трое педагогов имели среднее педагогическое образование, двое проработали в школе более 10 лет. Мордвы было большинство – 5 чел., русских – 1; крестьян – 5, прочих – 1. Ударников, членов ВКП(б), ВЛКСМ среди учителей не было. Библиотека располагала 1 136 учебниками и 130 книгами для чтения. Педагогическая библиотека содержала 25 книг на русском языке, детская – 48 на мокшанском и 21 на русском языке12.
Преподавание в школе велось на мокшанском языке. 212 учеников с трудом размещались в трех классных комнатах, поэтому 2 и 3 классы учились во вторую смену. Все дети получали горячие завтраки. В школе в эти годы не было ни рекреационного зала, ни учительской, ни раздевалки. На два школьных здания приходились 6 печей, погреб и конюшня площадью 4 кв. м. При школе имелся земельный участок в 2 га, но сельскохозяйственного инвентаря и скота не было13.
В акте обследования Нововерхиссен-ской школы за 1935 г. приводятся такие данные: «Детей колхозников – 141 человек, детей единоличников – 71. Комсомольцев и октябрят нет, пионеров – 42 человека. Ударников учебы – 10, второгодников – 10 человек». Членами Общества содействия обороне были 25 чел., ячейки МОПР (Мордовское общество помощи рабочим) – 22; физкультурного кружка – 28 чел.14
Из документов следует, что в селе не завершилась коллективизация: треть детей были из семей единоличников. Сократилось число второгодников. Школа стала проводником официальной идеологии через общественно-политические организации. В 1936 г. она получила статус государственной начальной школы.
В первый послевоенный 1946 г. в школу отправилось всего 43 ребенка. С 1 по 4 класс насчитывалось 5 классов-комплектов. В 1953/54 учебном году их было уже 12. На примере конкретной школы можно видеть рост количества учеников в результате подъема рождаемости в послевоенный период.
В начале 1950-х гг. в Новых Верхиссах произошло важное событие, во многом определившее будущее села и судьбы многих его уроженцев: открылась 10-летняя средняя школа, для которой было построено новое деревянное здание. Для сельской местности того времени это было не рядовое событие. Во всем Инсарском районе школы-десятилетки были только в четырех селах.
Выписка из протокола № 23 от 23 июня 1952 г. заседания исполкома Инсарского районного Совета депутатов трудящихся МАССР сообщает: «В связи с тем, что новое здание Староверхиссенской средней школы строится в селе Новые Верхиссы Нововерхиссенского сельсовета, Исполком просит Совет Министров МАССР переименовать Староверхиссенскую среднюю школу в Нововерхиссенскую среднюю. На месте прежней дислокации Староверхис-сенской средней школы в селе Старые Вер-хиссы открыть семилетнюю школу». Первым директором новой 10-летней школы стал Павел Павлович Дербеденев15.
Обстоятельства строительства новой школы отражают «психологическую реальность прошлого»: атмосферу, настроения и ценности сельских жителей послевоен- ной поры. По масштабам того времени это была огромная стройка. Строительный лес на быках приходилось возить за 20–30 км. Наравне с мужчинами упрямыми животными управляли женщины и девушки. Каждый житель села оказывал посильную помощь. Дети носили землю в подпол для утепления здания16.
1 сентября 1953 г. нововерхиссенская школа распахнула двери перед 274 учениками. Это были дети не только из Новых Верхисс, но и из множества ближайших сел, таких как Старые Верхиссы, Кашае-во, Новлей, Яндовище, Усыскино, Тумола, Липлейка, Васина Поляна, Сиалеевская Пятина, Языкова Пятина, Нижняя Вязера, Выселки, Семеновка, Шадымо-Рыскино, Новый и Старый Трехсвятск, Губарево. Учащиеся говорили на трех языках: русском, мокшанском и татарском. Школа стала местом межкультурной коммуникации.
Выпускница нововерхиссенской школы Елена Дмитриевна Кирдянкина вспоминает: «Мы были поражены красотой школы: потолок белый “как во дворце”, свежие бревна, чистота. В одном классе учились не только одногодки: многие были постарше, поскольку вынуждены были бросить школу в годы войны. Время было тяжелое: у кого лаптей нет, у кого портянок, одежды не хватало. Часто в семье на несколько человек была одна фуфайка, ее по очереди надевали, чтобы пойти в школу»17. Коренная нововерхиссенка Вера Федоровна Фирстова рассказывает, как после случившегося у нее в школе «замора» (обморока) директор Николай Матвеевич Волгаев стал покупать ей гематоген для поддержания сил18. Эти жизненные истории сельчан свидетельствуют о наличии социальной солидарности в 1950–1960-е гг., о семейном типе отношений между педагогами и учениками.
Трудности деревенского быта формировали специфику школьной жизни в селе. Чернильницы и ручки с перьями дети оставляли в классе, чтобы не потерять. Во время половодья на две-три недели пойма Иссы превращалась в море. Дети из соседних сел подолгу жили в Новых Верхиссах на квартирах, потому что не могли добраться домой. В протоколах педагогического совета в начале 1970-х гг. можно встретить такую запись: «Родительское собрание не провели с родителями нашего куста. Они отрезаны половодьем. В целях безопасности детей во время половодья создать спасательную команду из учителей»19.
В 1948 г. для советской школы была разработана и в 1949 г. введена единая школьная форма на основе дореволюционного гимназического платья. Мальчики должны были носить синие гимнастерки, брюки и фуражки, девочки – классические коричневые платья с черным и белым фартуками. Обязательным атрибутом стали комсомольские значки и пионерские галстуки. Однако, как вспоминают нововерхиссен-цы (дети послевоенной поры), в сельской местности в эти трудные годы школьной формы не было, ученики ходили в повседневной одежде. У девочек не было бантов, они заплетали косы и укладывали на голове «в корзиночку». Пионерские галстуки тоже были далеко не у всех, их сложно было купить даже в городе20.
Школьные документы сохранили сведения о порядках в сельской школе: «Уход за лошадью возложить на завхоза Кечкина Степана Владимировича и сторожа Ломач-кина Игната Степановича. Топить печи с 15 октября». Уборщицы ежедневно грели в печи воду для мытья полов и заправляли керосином лампы. Санэпидемстанция, проверявшая школу в 1971 г., обнаружила «разбитое стекло, отсутствие умывальника и тазов для мытья стаканов. Мальчики не подстрижены. Во время уборки картофеля посещаемость в школе плохая. Дети не раздеваются в школе. В школе холодно. Галстуки не носят или мнут в кармане»21.
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Одной из приоритетных задач советской школы было трудовое воспитание. Сельский уклад жизни делал трудовое воспитание не просто лозунгом или формальностью. Оно было суровой необходимостью сельского быта и органично вплеталось в традиции села. Детей в Новых Верхиссах приучали к самообслуживанию: старшеклассники сами мыли полы22. На огороде при школе дети с учителями сажали репу, лук, просо, картофель, цветы. В составе трудовых бригад школьники выращивали кукурузу, наравне со взрослыми участвовали в социалистическом соревновании23. В 1964 г. школьный учебно-опытный участок составлял 0,5 га. На закрепленной за школой колхозной земле (5 га) ежегодно сеяли овес (2 га), картофель (2 га). Ученическая бригада при колхозе состояла из 80 чел.24 Помощь хозяйству оказывали все дети начиная с 4 класса. За школой были закреплены 100 цыплят, классы делились на звенья, и каждое звено по очереди ухаживало за птицей25.
В 1958 г. по закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» был увеличен срок обязательного обучения с семи до восьми лет26. Реформа предполагала слияние общего и профессионального образования. Дважды в неделю школьники должны были работать в учебных мастерских, на заводах, фабриках, в колхозах и в итоге вместе с аттестатом зрелости получить свидетельство о рабочей квалификации. В начале 1960-х гг. средняя общеобразовательная школа с. Новые Верхиссы стала трудовой политехнической школой с производственным обучением, готовившей полеводов-механизаторов.
Многие исследователи советского образования полагают, что реформа 1958 г. не оправдала себя: школа и общество не были готовы к первичной профессиональной подготовке учащихся. В 1964–1966 гг.
произошел возврат к прежней системе обучения, трудовое обучение ограничилось уроками труда. Однако в сельской местности трудовое воспитание продолжало занимать одно из главных мест в школьном образовании. Тесная связь школы с производственными нуждами колхоза сохранялась и в 1970-е гг. В Новых Верхиссах школьники и учителя привлекались к заготовке веточного корма. Приказ № 13 от 2 июля 1971 г. по школе гласил: «На основе приказов райкома КПСС, райкома комсомола и Инсарского РОНО заготовить 40 тонн веточного корма. Нормы заготовок: учителям-женщинам – по 2 тонны, учителям-мужчинам – по 2,5 тонны; ученикам 3–5 классов – по 200 кг; ученикам 6–7 классов – по 400 кг; ученикам 8–9 классов – по 600 кг»27.
Школа в советские годы была центром социокультурной жизни села, местом досуга сельчан и развития детей. Уроженцы села вспоминают, как в школе по праздникам в голодные послевоенные годы проводились вечера, в которых участвовали не только дети, но и все колхозники. Учителя, старшеклассники, сельская молодежь танцевали допоздна. Когда в 1960-е гг. в селе был построен клуб, оказалось, что он стоит слишком далеко, и по привычке молодежь устраивала танцы в школе.
Дети 1950-х гг. вспоминают, как на переменах всем классом пели мокшанские, русские народные, советские песни, причем они делали это не с подачи учителя – им нравилось так проводить время между уроками. Практически весь день дети находились в школе, поскольку родители трудились в колхозе. Работала группа продленного дня. В районе был хорошо известен школьный хор Новых Верхисс, он занимал второе место после Инсарского, хотя готовились в эти годы к выступлениям без музыки (в школе не было музыкального инструмента).
На поле у реки дети и подростки играли в футбол. Ездили на велосипедах или ходили пешком на товарищеские матчи в соседние села. За победу в одном таком матче футбольная команда Новых Верхисс получила премию и перечислила ее в Фонд мира (в помощь воюющему Вьетнаму) [15, 171 ].
В послевоенные годы в школе не было спортзала, физкультура проводилась в широких коридорах школы, а в теплое время года – на улице. Молодая увлеченная своим делом учительница физкультуры организовала кружок гимнастики, в котором занимались 7 девочек. В Новых Верхиссах под руководством учителя дети выполняли акробатические номера, строили «пирамиды» и «живые фигуры», как на парадах физкультурников 1950-х гг.
В школьной библиотеке были книги и на русском, и на мокшанском языке. В середине 1970-х гг. она содержала 5 400 книг, из них 1 320 учебников28. Просветительная миссия советской школы не ограничивалась передачей базовых знаний фундаментальных наук. В 1950–1980-е гг. в нововерхиссенской школе работали многочисленные кружки: машиноведения и электротехники; животноводства и обучения работе на тракторе; фотографии; «Умелые руки»; хоровой; драматический; автомобильный; химический; стрелковый; математический; «Юный физик»; «Юный техник»; литературный; физкультурный; краеведческий; внеклассного чтения; тан-цевальный29. В середине 1960-х гг. была создана мастерская по деревообработке и по металлу на 20 чел. с токарным, сверлильным, фуговальным станками30. В 1970–1980-е гг. появились киноаппарат, ламповый радиоприемник, две швейные машинки, телевизор и магнитофон31.
Кружки восполняли недостаток культурно-просветительных учреждений в сельской местности. Педагоги не только передавали детям знания и навыки, но и делились своим социальным опытом, рас- ширяли кругозор детей, являлись трансляторами культуры и просвещения. Многие учителя в Новых Верхиссах были молодыми, в село приезжали по распределению, они искренне дружили с детьми, катались вместе с ними на лыжах, к праздникам сами шили костюмы.
Из приведенных ниже воспоминаний выпускников видно, что школа была одним из важных социальных институтов, в котором осуществлялась преемственность поколений и проявлялась социальная солидарность. Физрук ветеран Иван Тимофеевич часто рассказывал ребятам о войне. Учительница начальных классов Анна Ивановна Парваткина, красивая интеллигентная женщина из семьи священника, жила в квартире при начальной школе с мамой и тремя детьми. Мама Анны Ивановны на машинке «Зингер» обшивала не только своих внуков, но и многих детей из школы32. Агафья Федоровна Базаева, тоже преподававшая в начальной школе, угощала учеников пирогами и невиданными фруктами – апельсинами, которые ей из города привозил сын. Физик Николай Александрович Кижаев учил ребят пользоваться кинопроектором, знакомил с тонкостями фотографии33.
Между педагогами и учениками складывался семейный тип отношений, лишенный формализма. Однако при этом беспрекословно соблюдалась субординация, авторитет учителей был непререкаем, к ним относились с особым уважением и даже пиететом.
В 1970-е гг. в Новых Верхиссах работал «консультпункт» – вечерняя школа для 9, 10 и 11 классов. Там обучалась молодежь от 16 до 30 лет без 8-летнего среднего образования. Чтобы увеличить посещаемость вечерней школы, учителя нередко проводили занятия и консультации на дому ученика. Коренная нововерхиссен-ка Вера Федоровна Фирстова (Ларькина) вспоминает, как учителя супруги Чекаш-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ кины уговаривали ее, уже замужнюю и беременную, окончить вечернюю школу34.
Школа являлась и главным средством идеологического воспитания детей и молодежи. Один из протоколов педсовета за 1966 г. содержит призыв: «Жить так, как учит моральный кодекс строителя коммунизма». Ежегодно в апреле в школе проводились мероприятия под названием «Лениниана»; организовывались вечера под знакомыми с детства старшему и среднему поколению лозунгами: «Мы делу Ленина и партии верны», «Ленин и искусство»35.
Документы школьного музея и ЦГА РМ позволили проследить динамику количества учеников нововерхиссенской школы с конца XIX в. до 1980 г.: 1895 г. – 32 чел.; 1934 – 123; 1935 – 212; 1946 – 43; 1953 – 274; 1954 – 269; 1959 – 184; 1964 – 240; 1966 – 295; 1970 – 198; 1974 – 148; 1980 г. – 111 чел. Эта динамика наглядно отражает закономерности социально-экономического развития советского села в 1920–1980-е гг.: рост количества учеников в 1930-е гг., в период борьбы за всеобщее начальное образование; сокращение числа детей в годы войны; всплеск рождаемости в послевоенные годы; «второе эхо войны» в конце 1950-х – начале 1960-х гг.; новый прирост количества учеников во второй половине 1960-х и сокращение количества детей в поздний советский период из-за оттока молодежи в город. С 1954 по 1998 г. школа с. Новые Верхиссы выпустила 961 ученика [15, 206 ].
Заключение
На основе изложенного выше нарратива «повседневности» одного из сельских учебных заведений республики можно сформулировать вывод о том, что социокультурное пространство села в 1920–1980-е гг. во многом формировалось школой. Для села школа была центром культуры и просвещения, местом досуга детей и местных жителей. Школьные учителя составляли основу сельской интеллигенции. Школьная библиотека была главным источником знаний для всех сельчан. Школьные меропри- ятия были прочно вплетены в спортивную, праздничную и трудовую жизнь села.
Специфика школьной жизни, в свою очередь, во многом определялась социокультурными и этнокультурными реалиями эпохи: смыслами советской идеологии, системой ценностей и взаимодействий между людьми в полиэтничной среде. Стиль и ритм сельской жизни, хозяйственные занятия, культурные и национальные традиции оказывали влияние на жизнедеятельность сельской школы.
Место современной школы в социокультурном пространстве трансформируется. Она в большей степени становится местом получения знаний и в меньшей – местом социокультурной коммуникации, поскольку эти задачи выполняют другие социальные институты и цифровая среда. Индивидуализация личного пространства, снижение ценностей трудовой этики, сложности межпоколенной коммуникации меняют место и роль школы в социальном пространстве.
На примере истории нововерхис-сенской школы в 1920–1980-е гг. было показано, что школа являлась местом трансляции норм и ценностей участников социокультурной системы. Большое место в социализации детей занимало трудовое воспитание – и как жизненная необходимость в условиях сурового сельского быта, и как часть семейной этики, и как составляющая системы ценностей советской эпохи.
Многонациональный состав населения региона определил этнокультурные особенности школьной жизни. В послевоенные годы в нововерхиссенской школе обучались дети трех национальностей: русские, мордва и татары. Школа являлась местом межнациональной коммуникации.
«Устная история», зафиксированная в воспоминаниях уроженцев с. Новые Верхиссы, дала возможность наблюдать «психологическую реальность прошлого», увидеть, как школа воспроизводила семейный тип коммуникации между учениками и учителями при сохранении субординации и авторитета педагога. Со- циальные нормы, которые транслировала школа, совпадали с моделями семейной жизни. Это позволяло сохранять преемственность поколений и поддерживать социальную солидарность.
Школа, с одной стороны, была продуктом социокультурных и этнокультурных реалий, а с другой – одним из важнейших социальных институтов, в которых эти реалии формировались.
Список литературы Школа в социокультурном и этнокультурном пространстве села (на примере школы с. Новые Верхиссы Инсарского района Мордовии в 1920–1980-е гг.)
- Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России). В 2 т. Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. 806 с.
- Безгин В. Б. История сельской повседневности. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 88 с. URL: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/bezgin-l.pdf (дата обращения: 06.02.2022).
- Бущик Л. Б. Очерк развития школьного исторического образования в СССР. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 540 с.
- Быкова Е. Ю. Реформирование системы школьного образования в СССР в 1917–1930 гг.: организационные и идеологические аспекты // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1. С. 179–189. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000457928 (дата обращения: 06.02.2022).
- Иванова Г. М. Советская школа в 1950–1960-е годы. М.: Фонд «Моск. время». 2018. 432 с.
- Кошина О. В. К вопросу о применении социокультурного подхода к истории образования второй половины XIX – начала XX века // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы Десятой юбилейной Всерос. науч. конф., Екатеринбург, 27–28 сент. 2011 г.: в 2 т. Екатеринбург, 2011. Т. 2. С. 437–443.
- Колыхалов Д. В. Введение всеобщего обязательного начального обучения в СоветскойРоссии в 1923–1941 гг. // Палладиум. 2010. URL: https://pspa.ucoz.ru/publ/3 (дата обращения: 06.02.2022).
- Куршева Г. А. Общество, власть и образование в условиях модернизации в СССР: конец 1920-х – 1930-е гг. Саранск: НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия, 2007. 368 с.
- Лебедева Л. В. Повседневная жизнь российской деревни в 20-е гг. ХХ в.: традиции и перемены. М.: РОССПЭН, 2009. 183 с.
- Логвинов И. И. Об истории нашей школы и ее сегодняшних бедах // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2008. № 1. С. 46–64. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_15113656_10614907.pdf (дата обращения: 06.02.2022).
- Поляков Ю. А. Человек в повседневности (исторические аспекты) // Отечественная история. 2000. № 3. С. 125–132.
- Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3–19.
- Ракунов В. А. Государственная политика в сфере школьного образования в 1920–30-х гдах // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2011. № 1 (январь-февраль). URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/Rakunov_Formal_Education/ (дата обращения: 06.02.2022).
- Сенявский А. С. Повседневность как методологическая проблема микро- и макроисторических исследований (на материалах росийской истории XX века) // История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества: материалы Междунар. интернет-конф., проходившей 20.03–14.05.2001 на информ. -образоват. портале www.auditorium.ru. М., 2001. С. 25–34.
- Село Новые Верхиссы: 300 лет в истории России / З. И. Акимова, В. М. Арсентьев, Н. М. Арсентьев и [др.]; под ред. чл.-корр. РАН Н. М. Арсентьева. Саранск: Изд. Центр Институт, 2019. 296 с.
- Тамбовский О. М. Опыт истории советской школы в свете необходимости создания национальной российской школы // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 1. С. 338–340.
- Шепелев Р. А. Из истории школьного образования Мордовской АССР (по материалам научно-исследовательской экспедиции Научно-исследовательского педагогического института национальностей 1935 г.) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2017. Т. 17, № 4. С. 43–62. DOI: 10.15507/2478-9823.040.017.201704.043-062.