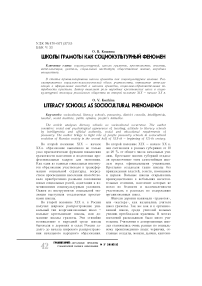Школы грамоты как социокультурный феномен
Автор: Кошина Ольга Владимировна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 3 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы школы грамоты как социокультурное явление. Рассматривается социально-психологический облик учительства, отношение интеллигенции и официальных властей к школам грамоты, социально-образовательные потребности крестьян. Автор выявляет роль народных крестьянских школ в социокультурной эволюции российского общества во второй половине XIX - начале ХХ века
Социокультурный, школы грамоты, крестьянство, земства, интеллигенция, учитель, социальный институт, общественное мнение, народная инициатива
Короткий адрес: https://sciup.org/14720563
IDR: 14720563 | УДК: 94(470+571):373.5
Текст научной статьи Школы грамоты как социокультурный феномен
The article analyses literacy schools as sociocultural occurrence. The author considers: social and psychological appearance of teaching, attitude to literacy schools by intelligentsia and official authority, social and educational requirements of peasantry. The author brings to light role of people peasantry schools in sociocultural evol ution of Russian society in the second half of XlX-th — begi nning of XX-th century.
Во второй половине XIX — начале XX в. образование выполняло не только узко прагматические функции повышения грамотности населения и подготовки профессиональных кадров для экономики. Как один из важных социальных институтов образование участвовало в трансформации социальной структуры, посредством просвещения населения способствовало приобретению разными сословиями новых социальных ролей, адаптации к изменившимся социокультурным условиям. Одним из инструментов социальной эволюции выступили создаваемые крестьянами школы.
Во второй половине XIX в. в России получил широкое распространение уникальный тип неорганизованных школ — вольные крестьянские школы, или домашние школы грамоты. Эти стихийно возникавшие в народной среде школы бытовали в деревнях и селах России задолго до начала широкого распространения начального народного образования.
Во второй половине XIX — начале XX в. они составляли в разных губерниях от 10 до 20 % от общего числа начальных училищ. Крестьяне многих губерний отдавали предпочтение этим самостийным школам перед официальными училищами. Крестьяне создавали такие школы без принуждения властей, земств, помещиков и церкви. Вольные школы открывались преимущественно в небольших несостоятельных селениях, население которых не могло по бедности и малочисленности участвовать в расходах по содержанию организованных школ.
Жители деревни нанимали «грамотея», или «мастера», как назывались учителя школ грамоты. Так же как и в организованной школе, среди учителей вольных училищ преобладали мужчины. В местах поселений раскольников было много учительниц. Учителями в доморощенных школах становились очень разные по социальному происхождению люди: чернички, отставные солдаты, монахи, дьячки, кантони- сты (дети солдат, отучившиеся в военных учебных заведениях низшего разряда), грамотные крестьяне, пастухи, управляющие имением, нищие, вдовы, незамужние дочери членов причта, иногда совершенно случайные «захожие» люди. Например, в Бугурусланском уезде Самарской губернии из 34 учителей вольных школ 24 были крестьянами, трое — солдатами, трое — из дворян и чиновников, двое — из духовенства и двое — из мещан [7, с. 58].
Местные грамотные крестьяне были заинтересованы в таких школах: обучение соседских ребятишек зимой было их побочным заработком. Учителя грамоты получали от 15 до 25 руб. за зиму при бесплатном («даровом») столе. Специального здания у таких школ не было: обучение могло происходить в «келье», т. е. уединенном жилище чернички или дьячка на окраине села. Часто здание было «переез-жим», т. е. учитель переходил из дома в дом, где были дети школьного возраста.
Отношение образованного общества к школам грамоты менялось на протяжении их существования. На первых порах, в 1860—1870-е гг., интеллигенция относилась к крестьянской самодеятельности презрительно, полагая, что вольные школы не обеспечивают должного уровня народного образования. Представители педагогической общественности даже предпринимали попытки пресечь создание вольных школ. Отношение властей было враждебным, вплоть до привлечения полиции, которая брала с учителей подписку о прекращении учебной деятельности.
Но буквально за 10—15 лет, к 1880-м гг., педагоги, земские деятели и представители властных образовательных структур осознали необходимость вольных школ. Стало понятно, что официальными училищами всех типов (министерскими, земскими, церковно-приходскими) охвачено далеко не все сельское население. Дети ходили в школу в соседнюю деревню, версты за три, а в малонаселенных губерниях — за 5—6 верст. Народная вольная школа была один из путей достижения элементарной народной грамотности.
Кроме того, стало понятно, что невозможно ни уничтожить школы грамоты, ни подтянуть их до уровня и норм организованных школ.
В 1880-е гг. школы грамоты стали привлекать к себе общественное внимание и сочувствие. На них стали смотреть как на своеобразный «умственный суррогат» невысокого достоинства, не вредный, а при нехватке правильно организованных училищ даже полезный. Многие общественные деятели стали даже чрезмерно идеализировать школу грамоты, особенно народники и либеральные земские деятели, считавшие ее самобытным народным творчеством. В 1885 г. вышла в свет книга известного педагога Н. Ф. Бунакова, в которой отношение к ним автора отражает ласковое название народных школ: «О начальных школках грамотности в народе». Земских деятелей, уже в те годы мечтавших о всеобщем обучении, привлекала в школе грамоты ее дешевизна: бесплатные помещения, дешевый учитель из народной среды.
Часть педагогов рассматривали школы грамоты как подготовительную ступень к организованной школе [6, с. 18]. Для маленьких детей домашние школы были комфортным способом освоить азы грамоты рядом с домом, а для их родителей-крестьян — дешевым и не хлопотным вариантом элементарного обучения детей. Подросшие дети, получившие начала грамотности в самостийной крестьянской школе, были готовы посещать организованную школу за пределами своего села.
Московская губернская земская управа разослала вопрос о способах помощи школам грамоты со стороны земств во все уездные земские собрания. Ни одно из собраний не пришло к положительному заключению. Губернская управа передала вопрос о народных школах на рассмотрение Совещания по вопросам народного образования, учрежденного в 1893 г. В это совещание должны были войти уездные предводители дворянства и председатели уездных управ, которые лучше всего были знакомы со школьным делом на ме- стах. Но большинство представителей уездов так и не пришли к определенным решениям в отношении крестьянских школ. Это не удивительно при многочисленности забот у губернских земских управ, при недостатке средств и неоднозначном отношении к школам грамоты.
В 1884 г. вопрос о быстром и широком распространении грамотности был поставлен в Санкт-Петербургском комитете грамотности при Вольном экономическом обществе. Была высказана идея готовить для домашних школ грамоты преподавателей в начальных училищах, таким образом, поощрять народную инициативу и помогать повысить качество обучения в народной школе, разгрузить организованную школу. Комитет грамотности выпустил Циркуляр о сборе сведений о вольных школах. Московский губернатор в 1892 г. отправил в Московскую губернскую земскую управу копию с полученного им сообщения г. обер-прокурора Святейшего Синода: «„покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать просвещенное содействие возможно широкому распространению первоначальных училищ этого типа» [8, с. 1].
В Правилах 13 июня 1884 г. упоминались школы грамоты как «домашние крестьянские школы, открываемые по деревням и поселкам, входящим в состав прихода» [8, с. 55]. По закону 1884 г. надзор за домашними школами был возложен на духовенство. Духовенство с тех пор пыталось открывать начальные училища по образцу домашних школ. Святейший Синод выработал правила о школах грамоты. По Правилам 4 мая 1891 г. к школам грамоты причислялись «все школы начального обучения, открываемые в приходах городских и сельских, а равно и при монастырях» [5, с. 2]. Закон 1891 г. был не о стихийных школах, возникающих без ведома властей и пособий, он говорит о школах более или менее устойчивых и организованных.
Закон 1891 г. определял, что школы грамоты могли быть учреждены членами причтов, монастырей, благотворительными учреждениями, прихожанами, сельски- ми и городскими обществами, земством. Открывались такие школы с разрешения местного приходского священника или уездного епархиального училищного совета. Избирать учителей для школ грамоты представлялось их учредителям по соглашению с приходским священником, который обязывался удостовериться в нравственной благонадежности кандидата, а при неимении у него свидетельства на учительское звание — в его познаниях [5, с. 3-8].
Таким образом, в 1891 г. школы грамоты были введены в официальную школьную сеть на правах церковно-приходских школ. Учителя этих школ получали официальное жалование, с них взимались 6 %-е отчисления в пенсионную кассу, ученики получали право на льготы по отбыванию воинской повинности. В 1906 г. в школах грамоты окончили курс со льготой по воинской повинности 5,9 % от общего числа мальчиков [9, л. 7-8]. В сущности, закон 1891 г. создавал новый тип церковной школы, отличавшейся от церковно-приходской только заниженными учебными требованиями и дешевизной. Духовное ведомство не делало различий между церковно-приходской и школой грамоты. Одна и та же школа в разных отчетах могла быть отнесена то к одному, то к другому типу. Как только церковноприходская школа приходила в упадок, ее переименовывали в школу грамоты.
Духовное ведомство пыталось решить задачу преобразования крестьянских деревенских школ в более благоустроенные, со специальным зданием, с более или менее подготовленными учителями из местных крестьян. Для подготовки учителей школ грамоты к 1907 г. было открыто 427 второклассных школ с общежитием, где в течение трех лет учили крестьянских детей не моложе 13 лет, окончивших одноклассную или двухклассную начальную школу. К 1 января 1907 г. во второклассных школах обучались 22 000 юношей, ежегодно выпускались около 5 000 учителей. К 1906 г. среди учителей школ грамоты было уже 50,2 % правоспособных учителей. Однако жалование учителей крестьянских школ разительно отличалось от среднего годового оклада учителей двухклассных училищ (311 руб.) и педагогов одноклассных училищ (222 руб.) и составляло в среднем 103 руб. в год [10, с. 9, 12].
В 1891 г. в Пензенской губернии, по сведениям Епархиального училищного совета, были 32 школы грамоты, где обучались 823 человека: 762 мальчика и 61 девочка. При этом епархиальное начальство признавалось, что эти сведения неполные, поскольку у священников часто нет времени и средств на разъезды и сбор сведений об этих школах. В 1892 г. в Казанской губернии было 198 школ грамоты, где учились 5 289 мальчиков и 1 224 девочки. С правом на льготу по воинской повинности окончили курс 304 мальчика. В Самарской губернии земское статистическое обследование выявило в шести уездах 306 вольных школ. Всего по официальным данным в 1890 г. в России насчитывались 9 374 школы [7, с. 47—48]. В действительности их количество было на порядок выше.
К 1907 г. в Российской империи были 15 603 церковных школы грамоты, что составляло 38 % от общего количества начальных школ, находящихся в ведении духовного ведомства (двухклассных, одноклассных и школ грамоты). Правда, тяжелый революционный 1906 г. нанес удар по численности церковных школ, которая сократилась, главным образом, за счет школ грамоты, на 4,2 % [10, с. 10—11].
Школы грамоты трудно было учесть в официальных отчетах. Они быстро и легко возникали и так же легко закрывались из-за случайных причин: болезни или переезда учителя, замужества учительницы. Кроме того, к таким училищам часто причисляли школы разных типов. В одних учредителем и преподавателем являлся унтер-офицер, или мальчик, окончивший курс в двухклассном училище, или отставной рядовой, или раскольничья начетчица. Это были своего рода частные учебные заведения. С таким учителем школа нередко кочевала из селения в селение.
В других школах под тем же названием скрывались училища, открытые обществами или благотворителями. Эти школы были более постоянны и организованны. Они имели специальное помещение: наемное или собственное. Священник преподавал в них Закон Божий. Другие предметы вели учителя, среди которых нередки были люди с высшим образованием. Преподаватели получали жалование от содержателей школ.
Промежуточный тип между этими двумя школами составляли мелкие школы, которые устраивало и содержало местное духовенство. Размерами и зависимостью от личности преподавателя они были сходны с домашними школами грамоты, но по преподавательскому составу и уровню обучения приближались скорее к церковно-приходским училищам.
Серьезной была проблема надзора за школами грамоты. Священники, и без того обремененные непосредственными обязанностями, как правило, служили законоучителями в земских школах, вели церковно-приходские училища. На местную школу грамоты не оставалось времени. Члены уездных отделений епархиальных училищных советов состояли из тех же приходских священников.
Тем не менее, несмотря на недостаток внимания, во всей России было несколько тысяч крестьянских самостоятельных школ. По данным одного из статистических сборников, в 1892—1893 гг. они составляли 13 % всех школ Европейской России [2, с. 53]. Больше всего их существовало в губерниях, где был спрос на знания, где были развиты отхожие промыслы, откуда поставлялась рабочая сила в столицу, фабричные губернии. Большим числом учащихся этих школ отличалась Тамбовская губерния. В 1892— 1893 гг. они составляли 20 % всех учеников губернии [2, с. 54]. Много школ грамоты было в Симбирской губернии. В 1902—1903 гг. они составляли 24 % к числу организованных школ [3, с. 54].
Вольная народная школа, видимо, отражала представления крестьян об иде- альной школе, сельское население считало ее своей, дети ходили туда с удовольствием. Большое значение для крестьян имел вопрос о принадлежности учителя к местной среде. Например, особой категорией учительниц в таких школах были «чернички», «монашки», «спасенницы» или «вековушки». Это были женщины из девушек, не вышедших замуж или добровольно отказавшихся от брака. Они, как правило, носили черное платье, отказывались от мясной пищи, многие были начетчицами, т. е. читали над покойниками. «Без земли, свободные от хозяйственных забот, странничают они по святым местам. Есть среди них и замужние, разорвавшие семейные узы. Нельзя находить странным, что из крестьянской семьи бегут крестьянские женщины, как из тяжкого плена и кабалы. Ничего, кроме бесправного рабского положения, слез и тяжелой работы... Бросая семью, женщины помышляли о спасении своей души. Если она грамотна, то начинала петь в келье духовные песни, читать божественные книги. Неграмотная учится грамо те.» [4, с. 103—104].
Многие из этих женщин были грамотными, хотя писать умели далеко не все. За решением религиозно-нравственных вопросов крестьяне нередко обращались именно к ним, а не к приходскому священнику. Их объяснения были более понятны крестьянам, чем отстраненные богословские истины священнослужителя. Им доверяли, оказывали почет в крестьянской среде. Второй немаловажной функцией этих женщин было распространение грамотности. Школы устраивались в их «кельях» на краю села. Они обучали девочек элементам грамоты, рукоделию, чтению часослова и Псалтыря. Образование было для многих одиноких женщин средством вырваться из бесправного положения в семье и вписаться в общинную среду в новой социальной роли.
Особую категорию учителей составляли убогие, старики —церковные сторожа, калеки, раненые на Крымской войне, т. е. люди, лишенные возможности заниматься физическим трудом. Для них это был способ прокормиться и не выпасть из социальной системы, не опуститься. Сохранились воспоминания о калеке из Черниговской губернии, который остался без рук, без ног, ртом держал книгу и обучал детей [7, с. 67].
Интересный психосоциальный тип представляли бродячие учителя. Это были, как правило, одинокие, бессемейные, бездомные мужчины разного возраста, звания, происхождения: отставной солдат николаевских времен; монах, изгнанный из обители; бывший дворовый или заштатный церковный священнослужитель, которому не хватило прихода. Потеряв прежний социальный статус, эти люди были склонны к бродяжничеству. Одни были бесшабашны по натуре, поэтому искали впечатлений в перемене мест, другие набожны, поэтому летом отправлялись по святым местам, а зимой — учительствовать. Нравственный уровень этих людей далеко не всегда был высок, многих тянуло к выпивке. Будучи хорошо знакомыми с такой категорией пришлых учителей, крестьяне часто устраивали им «испытательный срок» в 1—2 месяца и только потом, в случае их благонамеренного поведения, нанимали обучать детей.
Особые социальные и культурные предпосылки сложились для появления учителей вольных школ из интеллигенции: отставных чиновников, дворян, офицеров, барышень из хороших семей после гимназий и прогимназий. Многие из представителей привилегированных сословий были одержимы народническими идеями «искупить историческую несправедливость, вернуть долг интеллигенции народу» и добровольно отказывались от своего положения, чтобы служить народу.
Яркой иллюстрацией к взаимоотношениям учителя-интеллигента из Петербурга и крестьян-родителей является дневник учителя одной из вольных школ на севере России, который уехал учительствовать в глубинку. Он объясняет свои мотивы предпочтения деревенского житья городскому тем, что в Петербурге он остался без работы, голодал. В деревенской школе крестьяне платили ему 13 руб. 20 коп.
в месяц, чего при наличии жилья и бесплатных «харчей» вполне хватало еще и на газеты, книги, и даже отложить на «черный» день. С одной стороны, отношение крестьян к учителю-чужаку выражалось благодарностью: «не побрезговал нами», «поживи еще, пострадай с нами, барин». Они были очень довольны тем, что, кроме обучения детей, от учителя была дополнительная польза: он помогал подсчитать мирские расходы, подобрать лекарства, составить документы.
С другой стороны, с обеих сторон возникало непонимание, взаимное отчуждение в силу разницы менталитета, стиля жизни и мышления. Когда начинались праздники, крестьяне впадали в пьянство и разгул, учитель чувствовал себя одиноко. В свою очередь крестьяне составили настоящий социальный заказ на уровень и содержание обучения своих детей: «Не желаем мы, чтоб ребята учились грамматикам да рихметикам. Пусть пишут на бумаге да слово Божье читают. Научатся писать, читать, да на счетах складывать и довольно с нас. Нашим ребятам ведь не господами быть. Нам поскорее надо обучаться, не 10 лет в школе сидеть, время проводить за рисованием и “бреды” разные читать». Учителю пришлось корректировать программу и добавить в обучение столярное искусство. Крестьяне были очень довольны, это было полезное ремесло, а не «сказки о движении Земли и прочие пустяковины». Забавным было то, что учитель сам не владел столярным делом, и ему пришлось учиться вместе с детьми и у них [7, с. 77—78]. Таким образом, происходило постепенное преодоление многовекового социокультурного разрыва между высшими и низшими слоями общества, интеллигенцией и крестьянством.
Главным преимуществом вольной народной школы было то, что она не отрывала детей от семьи. Учитель был близок детям и родителям по социальному происхождению или был одержим идеей служения народу, поэтому ему больше доверяли, чем официальным учителям из министерских и даже земских школ. Режим работы этих школ в первые два десятилетия их существования не был ограничен циркулярами учебного начальства, был приспособлен к сезонной занятости крестьян и семейной ситуации.
Такая школа была дешевле официальной. Плата учителю была обычно по договоренности, в соответствии с возможностями населения. В слободе Кинель-Чер-кассах Бугурусланского уезда Самарской губернии с 1858 г. детей учила некая Че-редникова. Из 60 учеников 33 обучались бесплатно, 27 платили от 1 до 6 руб. в год. За 72 руб. в год учительница работала и зимой, и летом [7, с. 74]. Детям в вольных школах грамоты не нужны были валенки и теплая одежда, чтобы добираться до организованной школы в соседнее село в мороз или по бездорожью. Наименьшее число учеников в таких школах было там, где учителем был священник, потому что обучение у священников всегда было дороже.
Немногие крестьянские дети выходили из вольных школ хорошо обученными, да и материальное обеспечение этих школ было слабым по сравнению с церковноприходской, а тем более с земской и министерской. Эти школы были хорошим подспорьем правильных училищ. Наличие школ грамоты свидетельствовало скорее о готовности населения учиться, нежели было показателем высокого уровня образования.
С тех пор, как по Высочайше утвержденным 4 мая 1891 г. «Правилам о школах грамоты» самостийные крестьянские училища отдали духовному ведомству, школу грамоты формально приписали к церковной, потому что там часто обучали по Псалтырю, и она якобы сохраняла дух старой русской школы. Духовенство далеко не всегда было инициатором создания таких школ и уделяло им немного внимания, но количество церковно-приходских школ в отчетах сильно возросло за счет школ грамоты.
К началу XX в. с развитием сети организованных училищ интеллигентное общество постепенно охладевало к шко- лам грамоты. Общественное мнение складывалось в пользу возможности осуществления всеобщего обучения в училищах нормального типа. Например, к 1911 г. в Инсарском уезде Пензенской губернии числились всего две школы, а в Саранском уезде Пензенской губернии — только одна школа грамоты [1, с. 7, 9, 100].
Школы грамоты представляли из себя социокультурный феномен второй половины XIX — начала XX в. В этом социальном и образовательном явлении нашли отражение и были реализованы значимые тенденции эпохи. В условиях великих буржуазных реформ 1860—1880-х гг. шла трансформация социальной структуры, и «жертвы» этой трансформации, представители различных социальных слоев находили применение своим силам в обучении крестьянских детей, спасении от маргинализации. В этих школах происходило куль- турное сближение, осуществлялся опыт социального сотрудничества крестьянства и «бывших господ». Вольные школы стали одним из социальных институтов, где интеллигенция имела возможность осуществлять мессианскую идею возвращения морального долга народу. Духовное ведомство имело возможность воплощать в этих школах идею нравственного воспитания народа. Земства и другие общественные структуры могли проявлять инициативу и создавать такие школы или помогать крестьянству в их содержании. В народных школах обнаружилась тяга освобожденного крестьянства к знаниям, пусть в понимании крестьян это стремление часто было ограничено узостью кругозора и чисто прагматическими соображениями. Эти школы служили одним из носителей социокультурной эволюции российского общества в период перемен.
Список литературы Школы грамоты как социокультурный феномен
- Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Инсарский уезд. -Пенза: Паровая тип.-лит. тов-ва А.И. Рапопорт и Ко, 1913. -Вып.5. -185 с.
- Народные школы европейской России в 1892-93гг. Статистический очерк Ф. Ольденбурга. -СПб.: Типогр. П.П. Сойкица, 1896. -189 с.
- Начальное народное образование в Симбирской губернии по данным 1902-03 у/г. -Симбирск: Губ. Типогр, 1905. -148 с.
- От училищного совета при Святейшем Синоде. Часть офиц.//Пензенские Епархиальные Ведомости. -1900. -№1.-148 с.
- О школах грамоты. Воззвание и правила, Высочайше утвержденные 4 мая 1891г. -Казань: 1891. -16 с.
- Переплетчиков В. А. О нормальных щкольных расстояниях и о мерах, которыми население старается облегчить детям отдаленных от школы местностей пользование училищами. Изд. Москов. Об-ва Грамотности под ред. В.П. Вахтерова/В. А. Переплетчиков. -М.: Тип.-лит. Т-ва Кушнерев и К0, 1898. -60 с.
- Пругавин А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания/А. С. Пругавин. -Изд.2-е, доп. -СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1895. -560 с.
- Самарин Ф.Д. Доклад по вопросу об установлении возможной связи между земскою начальною школою и школою церковно-приходскою, а также по вопросу о содействии со стороны земства устройству школ грамоты/Ф.Д. Самарин. -М.: Тов-во скоропечатня А.А. Левенсон, 1896. -67с.
- ЦГА РМ. Ф. 42. Оп.1. Д. 4.
- Шемякин В.И. Церковная школа и духовная бюрократия/В.И. Шемякин. -СПб.: Тип. Монтвида, 1908. -30 с.