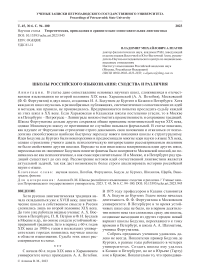Школы российского языкознания: сходства и различия
Автор: Алпатов В.М.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Третьи Фортунатовские чтения в Карелии
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье дано сопоставление основных научных школ, сложившихся в отечественном языкознании во второй половине XIX века: Харьковской (А. А. Потебня), Московской (Ф. Ф. Фортунатов) и двух школ, созданных И. А. Бодуэном де Куртенэ в Казани и Петербурге. Хотя каждая из школ изучалась в разнообразных публикациях, систематического сопоставления их идей и методов, как правило, не производилось. Предпринимается попытка проследить судьбу каждой из этих школ в ХХ веке. Если Харьковская и Казанская школы постепенно угасли, то в Москве и в Петербурге - Петрограде - Ленинграде можно отметить преемственность и сохранение традиций. Школа Фортунатова дольше других сохраняла общие принципы позитивистской науки XIX века, однако Московскую школу ее противники не случайно называли формальной. В статье показано, как идущее от Фортунатова стремление строго доказывать свои положения и отказаться от психологизма способствовало наиболее быстрому переходу нового поколения школы к структурализму. Идеи Бодуэна де Куртенэ были новаторскими и предвосхищали многие идеи науки о языке ХХ века, однако стремление ученого давать психологическую интерпретацию рассматриваемым явлениям не было свойственно другим школам. Нередко та или иная школа воспринимала идеи других школ, переосмысляя их: введенное Бодуэном понятие фонемы было воспринято Московской школой, но понималось не как психологическое, а как смыслоразличительное. И в Москве, и в Петербурге ряд традиций существует до сих пор. Рассмотрение истоков идей отечественной лингвистики является актуальной задачей, так как дает возможность более строго анализировать историю российской науки о языке.
Научная школа, потебня, фортунатов, бодуэн де куртенэ, шахматов, щерба, виноградов, фонема
Короткий адрес: https://sciup.org/147241123
IDR: 147241123 | УДК: 81-11 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.945
Текст научной статьи Школы российского языкознания: сходства и различия
Хотя русская лингвистическая традиция начала складываться уже к XVIII веку, лингвистические школы в собственном смысле в России сложились лишь во второй половине XIX века. До того уже работали видные ученые: А. Х. Востоков в Петербурге, П. Я. Петров и Ф. И. Буслаев в Москве и др., но они не создали устойчивой непрерывной традиции. Зато в период с 60-х годов XIX века до 1900-х годов в нескольких университетских городах появились научные школы в области языкознания. Судьба этих школ рассматривается в статье.
***
С начала 60-х годов XIX века в Харьковском университете начал преподавать А. А. Потебня.
В 1875 году профессором в Казани становится И. А. Бодуэн де Куртенэ. Годом позже началась деятельность Ф. Ф. Фортунатова в Московском университете. В Петербурге в то время устойчивых школ еще не было, но в первом десятилетии нового века там сложились сразу две школы, созданные выходцами из других городов: новый вариант школы Бодуэна, переехавшего к тому времени в Петербург, и школа А. А. Шахматова, ученика Фортунатова.
Собрать преданных учеников удавалось далеко не всегда. Показателен пример Бодуэна де Куртенэ, в разные годы работавшего в четырех университетах. Создать школы ему удалось в Казани и Петербурге, но не в Юрьеве (Тарту) и не в Кракове. Показательно то, что преподавав- ший в Юрьеве позже Бодуэна Д. Н. Кудрявский в учебнике «Введение в языкознание»1 постоянно ссылается на Потебню и игнорирует Бодуэна (как и Фортунатова).
Интересы представителей разных школ могли существенно различаться не только в концепциях, но и в областях исследований. Как известно, в XIX веке господствовал исторический подход к языку. Развивалось сравнительно-историческое языкознание, главной целью науки о языке считалось прежде всего восстановление праформ. Это соответствовало принципам, которым следовал Фортунатов: иногда, выходя за рамки компаративистики, он все же более всего занимался реконструкциями, получив здесь международное признание, например у А. Мейе. Потебню уже трудно считать компаративистом по преимуществу. А Бодуэн после нескольких ранних работ вообще отошел от данных проблем, считая, что концепция родословного древа, согласно которой языки в своей истории дробятся, но не смешиваются, «не выдерживает критики» и безусловно устарела. В полемике с компаративистами, несколько заостряя свою точку зрения, он даже назвал одну из своих статей «О смешанном характере всех языков». Например, английский язык, в лексике которого слов романского происхождения больше, чем германского, он считал не германским, а потомком германско-романского пиджина. Особо обращал внимание Бодуэн на так называемые пиджины и креольские языки, возникающие в зонах языковых контактов. В эту категорию он включал даже идиш, а во многом и английский язык. Он указывал, что с точки зрения концепции родословного древа русско-китайский пиджин, использовавшийся для общения между русскими и китайцами на Дальнем Востоке, попадает вместе с русским в число восточнославянских языков, но на деле отличается от русского языка больше, чем любой славянский.
В целом в русской науке тех лет можно видеть те же основные направления, что и на Западе: философскую лингвистику (ранний Потебня), сравнительно-историческое языкознание младограмматического типа (Фортунатов), историческую лингвистику, основанную на филологических методах (А. А. Шахматов). А Бодуэн вместе со своим казанским учеником Н. В. Крушевским искали новые пути и могут быть сопоставлены с такими учеными, как У. Д. Уитни и Ф. де Соссюр.
Наиболее влиятельным направлением в мировом языкознании того времени была немецкая школа младограмматиков. Ближе всего к младо- грамматизму, вероятно, находилась Московская школа, в рамках которой, однако, постепенно вырабатывались методы, обеспечившие в дальнейшем переход ее представителей к структурализму. Фортунатов (ученый, мало публиковавшийся и наиболее известный благодаря университетским курсам лекций, которые были изданы лишь посмертно, самое полное издание – [9]) в общей теории мало выходил за рамки младограмма-тизма. Его тексты по общей лингвистике, в частности фрагменты, включенные в хрестоматию [4], не выглядят особо оригинальными в отличие от соседствующих с ними текстов И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. Однако конкретная исследовательская практика Фортунатова была намного интереснее. Помимо индоевропеистики, он также занимался вопросами общих оснований грамматики вне какого-либо историзма. В частности, он разработал понятие формы слова, полемичное по отношению к более связанному с семантикой подходу А. А. Потебни. Идеи Фортунатова предвосхищали системный подход к морфологии в структурализме. И по тематике он выходил за рамки традиционных для мла-дограмматизма сравнительно-исторических исследований. Не вводя в теории разграничения синхронии и диахронии или статики и динамики, он в работах по теории грамматики занимался и вполне синхронными исследованиями; увлекаясь математикой, он стремился внести в эти работы математическую строгость мышления. Его ученик В. К. Поржезинский писал о «поразительной точности» Фортунатова в определении самих фактов2. Важны также его идеи в нехарактерной для младограмматизма области типологии, где до сих пор не все из сделанного им опубликовано; см. специальное историографическое ис-следование3.
Фортунатовскую школу на разных ее этапах противники постоянно называли «формальной», что имело основания. Школа стремилась рассматривать явления языка строго, на основе анализа языковых форм, без прямой апелляции к значению (хотя, разумеется, с его учетом) и языковому сознанию говорящих. Это в том числе требовало строгого отделения языкознания от филологии. Неслучайно именно с Фортунатовым связывают известные анекдоты об ученом, который восхищался прочитанными им санскритскими текстами, но не помнил их содержание. Подход филолога (и обычного человека), которому важно в первую очередь содержание, и «формальный» подход лингвиста показывали свое различие.
Еще в годы работы Фортунатова в Московском университете внутри его школы сложились два поколения учеников. С 1859 по 1864 год родились Г. К. Ульянов, А. И. Томсон, А. А. Шахматов, с 1870 по 1876-й – В. К. Поржезинский, Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново. Ко второму поколению примыкал и А. М. Пешковский, окончивший университет уже после ухода оттуда Фортунатова. Среди них вскоре резко выделился Шахматов, который после переезда в Петербург начал создавать собственную школу. Другие ученики Фортунатова из первого поколения хранили верность учителю. Показательны воспоминания П. С. Кузнецова, общавшегося с Томсоном уже в 1930-е годы. Два языковеда разных поколений, воспитанные на традициях Фортунатова, хорошо понимали друг друга и сходились по многим вопросам: сказывалась общность школы. Однако они разошлись во взглядах на фонологию, которая, по мнению Томсона, относилась к психологии, а не к лингвистике [7: 212]. Фонемных идей не было у Фортунатова, а для его ученика фонологические идеи Бодуэна ассоциировались с «психофонетикой», понятой Томсоном как рассмотрение лингвистических явлений с использованием методов другой науки, а этого фортунатовская школа старалась не допускать.
Следующее поколение Московской школы выступало в качестве хранителей традиций ее основателя. Особенно велика была роль Д. Н. Ушакова, во многом выступавшего в качестве лидера школы, хотя он прежде всего был организатором и руководителем коллективных работ, в том числе знаменитого словаря; также он активно популяризировал идеи Фортунатова. Выдающимся хранителем традиций стал и более молодой М. Н. Петерсон, передававший их нескольким поколениям московских лингвистов. А вот А. М. Пешковский, начинавший деятельность как последователь Фортунатова, потом эволюционировал в сторону идей Шахматова и отчасти Потебни; после этого «ортодоксы» Московской школы уже не считали его «своим». Все эти ученые могут быть отнесены к предшественникам структурализма, но еще не к структурализму.
Интерес к внутренней структуре языка, стремление к выработке строгих чисто лингвистических методов, признание правомерности полностью синхронного, «неисторического» подхода – все это уже тогда формировалось в рамках Московской школы. Не было лишь адекватной всему этому лингвистической теории, ее разработка произошла у следующего поколения, получившего в предреволюционные и первые послереволюционные годы обра- зование у учеников переставшего преподавать в 1902 году Фортунатова. Это были Н. С. Трубецкой, Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур.
В отличие от предшественников они учитывали идеи другой русской школы – Казанско-Петербургской, приняв, в частности, введенное там понятие фонемы, которое в Московской школе было переосмыслено на основе «формальных» принципов. Н. Ф. Яковлев в 1928 году писал:
«Я вполне присоединяюсь к выводам проф. Л. В. Щербы, что в каждом языке существует строго ограниченное количество звуков – “фонем”, однако я даю этому факту чисто лингвистическое толкование. Именно – фонемы выделяются, по моему мнению, не потому, что они сознаются каждым отдельным говорящим, но они потому и сознаются говорящими, что в языке как в социально выработанной грамматической системе эти звуки выполняют особую грамматическую функцию» [10: 128–129].
Были и попытки синтезировать идеи Московской и Петербургской школ [1], но они не нашли поддержки ни в той, ни в другой школе.
Если Московская школа продолжала развиваться и после Фортунатова, то Харьковская была связана в первую очередь с именем Потебни. Его первая книга «Мысль и язык» (1862) принадлежала к традиции философских грамматик, восходившей к В. фон Гумбольдту. В более поздних работах ученый, сохраняя гумбольдтовские идеи, эволюционировал в сторону позитивизма, стремясь к синтезу позитивизма и философских подходов. В рамках Харьковской школы работало и следующее поколение: Д. Н. ОвсяникоКуликовский, В. И. Харциев и др. В Харькове Потебня был окружен преданными учениками, но среди них не оказалось ученых того же уровня. Даже самый крупный из них – Овсянико-Куликовский – как языковед оказался прежде всего хранителем традиций своего учителя (он также был и литературоведом). К началу ХХ века школа в Харькове стала угасать, хотя до 1950-х годов там работали отдельные верные ее концепциям ученые (Т. И. Райнов).
При этом идеи уже покойного Потебни оставались влиятельными не только в Харькове. Яркий пример – вышеупомянутый Кудрявский, работавший в Юрьеве (Тарту) и лично никак не связанный с Потебней, но во многом следовавший его идеям. Через посредство харьковского профессора в его книге «Введение в языкозна-ние»4 присутствуют идеи В. фон Гумбольдта: о языке как деятельности, о невозможности установить для языка искусственные рамки и др. Большое место занимает понятие внутренней формы. Хотя Кудрявский старался оставаться в рамках позитивистской науки, влияние Потебни (и через него Гумбольдта) выводило ученого за эти рамки. Авторитет Потебни был высок и в советское время.
Особое место в науке о языке начала ХХ века занимал ученик Фортунатова А. А. Шахматов. Традиционно этого ученого считают близким к младограмматикам, но, как указывает В. В. Колесов, «в своей конкретной работе он… выходит за границы узкого младограмматического ложа и смыкается с Ф. Ф. Фортунатовым… и И. А. Бодуэном де Куртенэ» [5: 273]. Отмечу, что так же оценивал Шахматова в лекциях на отделении структурной и прикладной лингвистики МГУ и видный представитель нового поколения Московской школы П. С. Кузнецов. В частности, не только Бодуэн де Куртенэ, но и Шахматов задолго до появления книги Ф. де Соссюра разграничивал в языке статику и динамику (синхронию и диахронию). После смерти Шахматова в 1920 году во главе школы встал его ученик В. В. Виноградов, переехавший на рубеже 1920-х и 1930-х годов в Москву. Школа, перестав быть Петербургской (Ленинградской) территориально, и в Москве сохранила многие петербургские черты. Отсюда резкая полемика с Московской школой, включая А. М. Пешковского, которую вел Виноградов вплоть до 1950-х годов; взгляды Л. В. Щербы для него были гораздо более приемлемыми. Можно считать, что школа Бодуэна – Щербы и школа Шахматова – Виноградова были двумя ответвлениями Петербургской школы.
Бодуэн де Куртенэ
«в каждом университетском центре, где он работал… создавал самостоятельную школу: казанскую, дерпт-скую, краковскую, петербургскую и пр., и каждый раз это была не вариация прежней, но новое по качеству образование» [5: 396].
Однако, как уже говорилось, школы получились лишь в Казани и Петербурге. Среди его казанских учеников быстро выдвинулся Н. В. Крушевский, во многом новые идеи Бодуэн и Крушевский вырабатывали совместно, хотя из-за ранней смерти Крушевского часть из них была опубликована только в работах Бодуэна. В 1880-е годы Крушевского не стало, а Бодуэн уехал из Казани, но оставались еще их ученики, прежде всего В. А. Богородицкий, продолжавший работать там до 1941 года, однако с его кончиной школа окончательно угасла.
Из всех провозглашенных в Казани, а затем в Петербурге научных принципов наибольший резонанс получило введение с 70-х годов XIX века понятия фонемы. В Московской школе «отцом и прародителем и фонемы, и фонологии» [8: 9] был признан Бодуэн де Куртенэ. Он разграничил антропофонику (акустико-физиологическую дисциплину) и психофонетику (впоследствии была преобразована в фонологию). После этого активно обсуждались как соотношение этих двух дисциплин, так и суть того, что первоначально было названо психофонетикой.
Важную роль в концепции Бодуэна играл психологизм, который не был принят большинством его последователей, поскольку психологические критерии были (по крайней мере, в то время) слишком нечеткими и субъективными. Поэтому лингвисты следующего поколения, принадлежавшие к разным школам, приняв идею фонемы, старались выработать иные, более строгие критерии выделения фонем. Критерии, однако, выделялись разные. Для Щербы это было звуковое сходство, а для Московской школы, как и продолжавших ее традиции Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, – смыслоразличение.
В Петербурге учениками Бодуэна де Куртенэ стали три крупнейших лингвиста: Л. В. Щер-ба, Е. Д. Поливанов и Л. П. Якубинский. Из них больше всего идеям учителя продолжал следовать Поливанов, вплоть до понимания фонологии как психофонетики, но в силу жизненных обстоятельств он покинул в 1921 году Петроград и не создал собственной школы. Преемником Бодуэна в Петрограде / Ленинграде стал Щерба, который, как выше уже отмечалось, подверг идеи учителя модификации, отказавшись от прямой апелляции к психологии (хотя в скрытом виде она продолжала присутствовать) и перейдя к «физикализму», за который его критиковали москвичи.
После Бодуэна две дисциплины все более расходились. Лингвисты, занимавшиеся звуковой стороной языка, все реже были одновременно фонетистами и фонологами. Здесь многое определяла принадлежность к той или иной школе. По-разному мог решаться вопрос о том, нужно ли учитывать и описывать любые звуковые различия или только те, которые значимы для носителей языка. Экспериментальная фонетика во второй половине XIX века активно развивалась в разных странах, но она фиксировала и те звуковые различия, которые носители языка могут не замечать.
Труднее всего переход к фонологии давался именно лучшим экспериментаторам. Московская школа обвиняла Щербу и его учеников в «физикализме», поскольку они понимали фонему как класс близких по качеству звуков, выделяемый вне каких-либо функций языка.
Процесс перехода к фонологическому анализу имел несколько этапов, во время которых позиции «бумажной» науки усиливались. Бодуэн де Куртенэ понимал фонологию как «психофонетику», для него язык и фонема как одна из его единиц еще были если не физической, то, по крайней мере, психической реальностью. В 1930-е годы этим фонологическим взглядам оставался верен Поливанов, но для Н. С. Трубецкого это казалось давно пройденным этапом, и он резко писал о поздних работах Поливанова, приписывая данную точку зрения его оторванности от научных центров. Трубецкого, как и большинство других структуралистов, интересовали в первую очередь не элементы, а отношения между ними. Спор о фонеме между Московской и Ленинградской школами продолжался более полувека – до 1990-х годов.
Школа Бодуэна занималась не только фонологией. Этот ученый, как и Крушевский, во многом предвосхищал идеи структурализма. Они указывали на то, что реконструкции праязыков – не единственная и не главная задача науки о языке. Крушевский в книге «Очерк науки о языке» (1883) писал: «Область языковых явлений, наравне с другими областями существующего, подчинена известным законам, в общенаучном смысле этого слова» [6: 101]. Законы он делил на статические и динамические. Понятие закона существовало и до этого, но о «статических законах» речи не шло: считалось, что объяснение языковых явлений может быть только историческим. Бодуэн де Куртенэ помимо этого выделял в языке статику и динамику. В программе казанского курса 1877/78 года он писал: «Исследованием законов равновесия языка занимается статика, исследованием же законов движения во времени, законов исторического развития языков – динамика» [2: 110], введя в лингвистику статические, то есть синхронные, понятия фонемы и морфемы, ставшие основополагающими в мировой науке ХХ века. При всех дальнейших модификациях этих понятий они понимались как статические.
В дальнейшем Бодуэн де Куртенэ, никогда не отказываясь от правомерности исторического подхода к языку, постоянно обращался к анализу современных языков. Стремление к изучению живых языков сказывалось и на научнообщественной деятельности ученого. Он много лет выступал против классического образования, уделявшего главное внимание преподаванию «мертвых» греческого и латинского языков, в таком внимании Бодуэн видел лишь «унаследованный от прошлого пережиток». Он подчеркивал:
«Только живой язык, язык, существующий в голове ученика, поддается всестороннему наблюдению и опыту», поэтому как «средство развития ума» необходимо лишь преподавание родного языка учащимся [2: 34].
В то же время Бодуэн де Куртенэ никогда не отрывал статику (синхронию) от динамики (диахронии) так, как это делал его знаменитый младший современник Ф. де Соссюр. Бодуэн указывал:
«В языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть только частный случай его динамики» [2: 349].
Совсем иной была точка зрения Ф. де Соссю-ра, для которого между синхронией и диахронией лежала непреодолимая пропасть. И даже индийскую науку о языке Бодуэн осуждал за «отсутствие историзма».
Морфема, минимальная единица морфологии, также понималась Бодуэном де Куртенэ психологически. Он считал морфемой минимальную часть слова, обладающую самостоятельной психической жизнью. Морфема также им понималась как реально существующая единица:
«На все морфологические элементы живого мышления – морфемы, синтагмы… следует смотреть не как на научные фикции или измышления, а только как на живые психические единицы» [2: 43].
Развитие языка Бодуэн де Куртенэ рассматривал не как случайный процесс, а как выражение тех или иных тенденций, которые могут быть разными в каждом конкретном языке. Скажем, для польского языка он отмечал постепенное сглаживание количественных противопоставлений в фонологии и их усиление в морфологии, для истории русского языка – общую тенденцию к ослаблению противопоставлений гласных и усилению противопоставлений согласных. Такого рода тенденции могли не только выявляться в прошлом, но и проецироваться в будущее. Интерес к тому, каким может стать язык в будущем, несвойственный большинству лингвистов, отличал Бодуэна де Куртенэ и нашел продолжение у Поливанова.
Безусловно, ученики Бодуэна де Куртенэ имели некоторые общие черты в своих научных подходах, противопоставленные Московской школе, созданной Фортунатовым. Но что это за черты? Заслуживает внимания такое высказывание:
«Для петербургской филологии существенно внимание к семантике системы (“значение формы”) в ее функции и динамике, тогда как московская филологическая школа предпочитала интерес к языковой форме в лингвистически конструированной модели (“значимая форма”), статически представленной как стиль» [5: 420].
Разумеется, в отечественной науке о языке совокупность научных школ претерпевала изменения. Одни школы угасали, другие возникали. Если в Ленинграде господство школы Щербы было заметно еще долгое время, то в Москве однородности уже не было. Идеи школы Фортунатова развивали В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский, А. М. Сухотин, П. С. Кузнецов. Но в Москву переезжали ученые иных традиций: Е. Д. Поливанов, А. М. Селищев, В. В. Виноградов. Новая ситуация может характеризоваться по-разному. Например, в сравнительно недавней публикации основными направлениями советской науки о языке к началу 1950-х годов были названы марризм, «виноградовское направление» и «зарождающийся отечественный структурализм», к которому отнесены, в частности, публикации Р. И. Аванесова, представителя Московской фонологической школы [3: 538–539]. Впрочем, марризм после 1950 года уже не имел существенного значения. Но два других направления, связанные с соответствующими школами, действительно играли ведущую роль в то время (хотя Аванесов, разошедшийся с другими участниками кружка, был здесь не самым представительным). Можно согласиться и с тем, что Московская фонологическая школа, по сути, относилась к лингвистическому структурализму, хотя этот термин тогда не употреблялся.
С 1950-х годов стали появляться новые научные лидеры, уже прямо причислявшие себя к структурализму. Сложилось сообщество вокруг И. А. Мельчука и Ю. Д. Апресяна, обладавшее всеми признаками научной школы. В Ленинграде наряду с продолжателями традиций, заложенных Л. В. Щербой (А. В. Бондарко и др.), сложилась занимавшая особое место типологическая школа, основанная А. А. Холодовичем и продолженная В. П. Недялковым и В. С. Храковским. Можно привести немало и других примеров. Но традиции школы Фортунатова продолжали жить. Центром подготовки лингвистов в 1960-е годы в Москве стало отделение теоретической / структурной и прикладной лингвистики МГУ, где эти традиции сохранял и передавал студентам П. С. Кузнецов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание и развитие научных школ – естественный процесс. И он не может не продолжаться. В статье сделана попытка показать, что Московская и Петербургская (Ленинградская) школы при всех видоизменениях сохраняли свои традиции. Москвичи старались опираться на формальные подходы, дающие возможность объективной проверки, были сосредоточены на строго лингвистических критериях, а петербуржцы в большей степени использовали понятия других наук: психологии, фонетики.
Список литературы Школы российского языкознания: сходства и различия
- Бернштейн С. И. Основные понятия фонологии // Вопросы языкознания. 1962. № 5. С. 62-80.
- Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. Т. 1. М., 1963. 384 с.
- Гоготишвили Л. А. Комментарии // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М.: Русское слово, 1996. С. 388-389.
- Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX вв. в очерках и извлечениях. Часть I. М.: Просвещение, 1964. 466 с.
- Колесов В. В. История русского языкознания. Очерки и этюды. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003. 471 с.
- Крушевский Н. В. Избранные работы по языкознанию. М.: Наследие, 1998. 296 с.
- Кузнецов П. С. Воспоминания // Московский лингвистический журнал. 2003. Т. 7, № 1. С. 155-250. EDN: SIIQEZ
- Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М.: Наука, 1970. 528 с.
- Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды: В 2 т. М.: Прогресс, 1956-1957.
- Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 123-148.