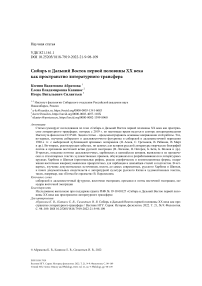Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера
Автор: Абрамова К.В., Капинос Е.В., Силантьев И.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья суммирует исследования по теме «Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера», которые с 2019 г. по настоящее время ведутся в секторе литературоведения Института филологии СО РАН. Задача статьи - продемонстрировать основные направления этой работы. Это, во-первых, изучение сибирского и дальневосточного футуризма и сибирской и дальневосточной периодики 1920-х гг. с выборочной публикацией архивных материалов (Н. Асеев, С. Третьяков, В. Рябинин, В. Март и др.). Во-вторых, реконструкция забытых, но ценных для истории русской литературы творческих биографий поэтов и прозаиков восточной ветви русской эмиграции (В. Логинов, Н. Петерец, Б. Бета, Б. Волков и др.). В-третьих, описание поэтики дальневосточных, харбинских и шанхайских авторов, выявление в их прозаических и стихотворных текстах художественных приемов, обсуждавшихся и разрабатывавшихся в литературных кружках Харбина и Шанхая (оригинальные рифмы, редкие строфические и композиционные формы, подражания восточным жанрам); выявление приоритетных для харбинцев и шанхайцев стилей и подтекстов. В-четвертых, изучение документальных источников, вплоть до самых современных, русского Харбина и Шанхая, и поиск документальных свидетельств о литературной культуре русского Китая в художественных текстах, таких, например, как «Поэма без предмета» В. Перелешина.
Сибирский и дальневосточный футуризм, восточная эмиграция, прозаики и поэты восточной эмиграции, мемуары восточной эмиграции
Короткий адрес: https://sciup.org/147239032
IDR: 147239032 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-9-98-109
Текст научной статьи Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера
С 2019 г. в секторе литературоведения Института филологии СО РАН велись исследования по теме «Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера». Изучение проблем, связанных с сохранением языковой, национальной и культурной идентичности в условиях эмиграции, давно стало одним из приоритетных направлений современного гуманитарного знания. Внимание филологов, работающих в этой области, до самого последнего времени было направлено в первую очередь в сторону Европы: на Запад эмигрировали такие крупные писатели, как Иван Бунин, Марина Цветаева, Владимир Набоков, Владислав Ходасевич, а в таких городах, как Прага, Берлин, Париж, концентрировалась русская культурная жизнь. Гораздо меньшее внимание уделялось русскому рассеянию в географически противоположном, азиатско-тихоокеанском направлении. Между тем его история, при всей ее малой изученности, уже сейчас выглядит захватывающе интересной.
В 1918–1920 гг. пути восточной эмиграции проходили, вместе с медленно отступающей армией Колчака, через Сибирь и Дальний Восток – в Харбин и Тяньцзин, Пекин и Шанхай. Независимая Дальневосточная республика (ДВР), просуществовавшая с апреля 1920 по ноябрь 1922 г., успела стать, пусть ненадолго, прибежищем творческой интеллигенции, бежав- шей от хаоса, голода и разрухи на Восток. Ее продвижение, вместе с медленным отступлением армии Колчака, оказало сильное воздействие на литературную и художественную жизнь городов Сибири и Дальнего Востока, которые стали на это время территорией интенсивного культурного трансфера.
Знаменитое турне Давида Бурлюка и Владимира Гольцшмидта по Транссибирской магистрали [Крусанов, 2003, с. 3 90], работа футуристов Николая Асеева и Сергея Третьякова в периодике Владивостока, приток высококвалифицированных литераторов и журналистов из столиц и европейской части России, их сотрудничество с местными авторами привели к появлению на Дальнем Востоке качественно новой культуры. Она испытала влияние столичного модерна и авангарда, соединив его, во-первых, с трагическим опытом гражданской войны и эмиграции, а во-вторых, с новым для русских европейцев восточным и сибирским колоритом, которым они жадно интересовались.
У нас нет полной картины культурной жизни Сибири и Дальнего Востока (включая русский Китай) того времени, да и вряд ли возможно сегодня воссоздать ее в достаточной полноте: многие страницы этой книги утеряны безвозвратно. Почему так случилось - понятно. Во-первых, потому, что русская культура европоцентрична, и любой восток долгое время воспринимался как сугубая провинция; во-вторых, в результате действия различных политических причин и резонов. Писатели, журналисты и другие деятели культуры, оставшиеся в России (или вернувшиеся), вынуждены были скрывать свои публикации в «контрреволюционной» дальневосточной печати, несмотря на то, что во время существования ДВР еще не было резкой черты, которая четко делила бы деятелей культуры на «красных» и «белых». Это очевидно для всякого, кто возьмется за систематический просмотр ее периодики: в одних и тех же журналах печатались поэты и писатели разных политических взглядов, что мало беспокоило и самих писателей, и их издателей; яркий пример тому - независимая владивостокская газета «Эхо» (1919–1921). Впоследствии, разумеется, восприятие материалов из подобных изданий поляризовалось, и произведения дальневосточного периода оказались «выпавшими» из творческих биографий, например, Асеева и Третьякова, не говоря о менее известных авторах.
Ныне эти, едва не утраченные, страницы истории начали изучаться: переиздаются книги, написаны первые биографические очерки о тех, кто печатался лишь на востоке и о ком мы прежде не знали. Всё это - лишь начало предстоящей громадной работы, связанной с осмыслением архивных и уже опубликованных материалов. Утрачено (или пока что кажется навсегда утраченным) очень многое: книги, журналы и сборники, изданные в ДВР и русском Китае, изымались из библиотек, уничтожались, прятались, пропадали во время частых и, как правило, внезапных переездов. Некоторые издания сохранились чудом - как, например, уже упомянутая газета «Эхо», бесценная для истории культуры. В ней практически еженедельно печаталась хроника литературной, художественной, театральной жизни Владивостока и Приморья, освещалась деятельность владивостокского Литературно-Художественного общества (ЛХО ДВ), печатались заметки о конкурсах и литературных состязаниях, проходивших в подвале театра «Золотой Рог», о новых книгах (например, о первой поэтической книге Третьякова «Железная пауза» 1919 г.) и журналах: «Бирюч» (1920), «Творчество» (19201921), «Юнь» (1921), «Великий Океан» (1917–1920). В некоторых архивных, музейных и библиотечных фондах Сибири и Дальнего Востока эти и другие издания сохраняются - чаще всего, в единственном экземпляре. Так, в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока был обнаружен сатирический листок «Блоха», в котором опубликовано большое количество фельетонов, направленных против ЛХО и его членов, в первую очередь поэтов-футуристов. Общей картины этой богатой литературно-художественной жизни не восстановить без тщательной архивно-поисковой работы, которая вселяет надежду найти новые документы и уникальные издания. Редкие, плохо сохранившиеся газеты и журналы содержат материалы, взывающие к републикации, и опыт таких републикаций с комментариями уже был нами осуществлен [Капинос, Лощилов, 2020].
Результаты исследования
Избранные плоды наших усилий в этом направлении – коллективная монография «Русский Китай и Дальний Восток. Поэзия, проза, свидетельства» [2021]. Собранные в ней исследования объединяет общая задача изучения письменных источников восточной русской эмиграции, включая мемуаристику, – как раннюю, так и позднюю, вплоть до современной. Выбрав из составленной нами коллекции дальневосточных изданий и литературных сочинений ХХ в. (преимущественно 1920–1940-х гг.) наиболее ценные, мы попытались описать их характерные черты и особенности поэтики тех авторов, которые только сейчас, после почти векового забвения, находят своего читателя.
В книге четыре раздела, и в каждом разделе представлены разного рода исследования дальневосточного материала. Первый цикл исследований по теме посвящен дальневосточному футуризму. Вернемся к уже упомянутой выше публикации двух рассказов Николая Асеева («О жалости человеческой» и «Рассказ ни о чем») и статьи «Мена имен» [Капинос, Лощи-лов, 2020]. Статья Асеева «Мена имен» никогда не появлялась в книгах поэта, как и оба рассказа. Написанные в 1918 и 1920 гг., рассказы прочитываются как реакция на революционные и постреволюционные события, свидетельствующие о том, что «поэт... пережил травматический, остро-болезненный опыт свидетеля и участника быта в стране, охваченной гражданской войной» [Русский Китай..., 2021, с. 16]. Владивостокская футуристическая статья Асеева «Мена имен» позже не печаталась также, она состоит из примеров описания поэтической этимологии, очень похожей на те, что встречаются у формалистов, например, в «Проблеме стихотворного языка» Ю. Тынянова [1924].
Книги, ставшие памятниками сибирского и дальневосточного футуризма, единичны, главные из них рассматривались нами специально. К примеру, книга Сергея Третьякова «Железная пауза» [Русский Китай..., 2021, с. 46–83] и публикации сибирского футуриста Виталия Рябинина в журнале «Юнь» вкупе с его небольшой оригинальной поэтической книгой «Ме-лотрельные аккорды» (Томск, 1918). Следует заметить, что о жизни и творчестве Рябинина, как и об истории журнала «Юнь», в котором он публиковался, известно крайне мало. Как раз в стихотворной книге Рябинина «Мелотрельные аккорды» четко выявляется влияние восточной культуры, сказавшееся на редких строфических формах раздела «Японские акварели» [Куликова, 2021].
След дальневосточного футуризма лежит и на прозе В. Марта, созданной не на Дальнем Востоке, а в более позднее время, в начале 1930-х гг. Но в этой прозе узнаются приемы и темы раннего творчества В. Марта (см. об этом: [Денисова, 2021]), когда он печатался во владивостокских изданиях, на равных с Бурлюком, Асеевым и Третьяковым. Поэт-футурист Венедикт Март (В. Н. Матвеев), выходец из знаменитой в Приморье семьи Матвеевых, сын писателя, краеведа, издателя и переводчика с японского Николая Амурского (Н. П. Матвеева) и брат поэта Гавриила Эльфа (Г. Н. Матвеева), безусловно, заслуживает отдельного монографического исследования, но это – дело будущего.
Возвращение с Дальнего Востока после окончания Гражданской войны сильно изменило не только судьбу, но и поэтику Асеева и Третьякова (как и покинувшего родной Дальний Восток Венедикта Марта). Поэтам пришлось быстро подстраиваться под стандарты советской агитационной поэзии и «литературы факта» и даже разрабатывать новые литературные стандарты в теории и на практике, как в случае Сергея Третьякова, впоследствии ставшего редактором журнала «Новый ЛЕФ». Опыт дальневосточного футуризма 1917 – начала 1920-х гг. остался, таким образом, уникальным, невосполнимым, прерванным и не возымевшим продолжения…
После падения ДВР пути восточной эмиграции сошлись в русском Китае, поэзии и прозе которого посвящен основной пласт исследования по теме. Более половины объема коллективной монографии «Русский Китай и Дальний Восток. Поэзия, проза, свидетельства» занято работами о русском Китае, они собирают в себе много совершенно неизвестного ранее и не- исследованного материала. Кроме двух разделов монографии надо упомянуть цикл не вошедших в монографию статей о прозе и поэзии Харбина и Шанхая.
О литературной жизни русского Китая мы все еще знаем очень немного, существующие авторитетные исследования на эту тему принадлежат прежде всего ученым Дальнего Востока, издававшим некоторых харбинских писателей и ведущих работы в архивах Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Читы, Китая и пр. 1. Их силами в последние полтора десятилетия началась активная републикация и публикация наследия харбинцев, и некоторые из них уже стали довольно известны (особенно много работ – о поэзии Арсения Несмелова), творчество других еще не рассматривалось подробно. Вписать эту поэзию в историю русской литературы, проследить ее истоки, выявить то особенное, в чем состоит ее ценность, – такая задача стояла перед нами, когда мы рассматривали поэзию Николая Щеголева, Алексея Ачаира, Бориса Беты (Б. В. Буткевича). Так, изучение поэтики Бориса Беты заняло несколько лет (см.: [Русский Китай..., 2021, с. 157–177; Силантьев, Шатин, 2021]), и теперь можно констатировать, что исследователями был сделан достаточно полный очерк творчества Буткевича, после чего персоналия Буткевича перестала быть белым пятном на литературной карте русского Китая.
Особое внимание было нами уделено той поэтической школе, которая связана с историей литературных объединений «Чураевка», «Молодая Чураевка», «Зеленая лампа» и «Пятница». Эту школу отличало стремление опробовать и освоить редкие формы стиха (исключительно редкие и сложные рифмы, строфы, жанры и т. д.) и неожиданные, оригинальные темы, часто связанные с реалиями китайской жизни и китайской экзотикой. Представление о литературных группах и кружках восточной ветви русской эмиграции невозможно и без реконструкции творческой биографии Николая Петереца, руководителя литературного направления главной культурной организации русского Китая – «Чураевки», а позже «Пятницы». До настоящего времени о Н. Петереце было известно, как и о многих поэтах и писателях русского Харбина и Шанхая, очень мало. Его биография восстанавливается по мемуарам харбинцев, и по портретам поэта и журналиста в «Поэме без предмета» и в прозе В. Перелешина [Капи-нос, 2021]. «Поэма без предмета» – это своего рода энциклопедия литературной жизни Китая, практически исторический документ, созданный свидетелем харбинской истории. Но «Поэма...» В. Перелешина интересна не только как документ, но и как самостоятельное и весомое художественное произведение Валерия Перелешина – одного из самых интересных и плодовитых поэтов младшего поколения. «Поэма без предмета», написанная в середине 1970-х гг., уже в Бразилии, имеет непосредственное отношение к русскому Китаю, в самых разных смыслах – это и сюжетный материал, и этнографический, и экспериментальностиховой в духе версификационной лаборатории «Пятницы» и «Чураевки». Резонно считать поэму Перелешина «энциклопедией русской литературы Китая» и изучать в сопоставлении с «Евгением Онегиным» и «Поэмой без героя» Анны Ахматовой.
Еще одной заметной фигурой в литературной жизни восточной ветви русской эмиграции был принимавший участие и в харбинской «Чураевке», и в шанхайской «Пятнице» Николай Щеголев. В поэтике Н. Щеголева К. В. Абрамова обращает внимание на рифмы, звуковое оформление текста, а также эксперименты со строфическим построением, указывает на сближение поэтических произведений Щеголева с авангардными тенденциями в русской литературе [Русский Китай..., 2021, с. 113–137]. Анализ произведений Щеголева и выявление в них отсылок к творчеству Маяковского, Пастернака, футуристов, других интертекстуальных пересечений позволили более глубоко описать особенности восприятия поэтами-эмигрантами в Китае культурно-исторических процессов, происходивших в советской России [Абрамова, 2021].
Столь же энигматична, как и персоналии Бориса Беты и Николая Петереца, персоналия Василия Логинова. Практически впервые с точки зрения поэтики и ее истоков И. Е. Лощило-вым описывается творчество этого харбинского поэта, которого по праву нужно отнести к продолжателям традиций авторитетного русского сатирического журнала «Сатирикон». Хорошо известно, что история «Сатирикона» (и «Нового Сатирикона») после революции была прервана в России, но продолжалась и плодотворно развивались в западной эмигрантской и европейской литературе. Тэффи, Дон-Аминадо, П. Потемкин, Саша Черный, А. Аверченко, художник Н. Ремизов (Ре Ми) и их круг в русской эмиграции – это актуальная тема, которую сейчас активно исследуют историки литературы и изобразительного искусства, прежде всего потому, что сотрудники «Сатирикона» и других сатирических журналов оказались на Западе и основали там новые издания, организовывали выставки и литературно-художественные общества, сыграли видную роль в истории русского эмигрантского и европейского театра, ценность их вклада в европейскую культуру неоспорима 2. В работе над нашей темой обнаружилось, что сатириконовский стиль нашел продолжение не только на Западе, но и на Востоке, в Китае. Творчество В. Логинова и словесно-иллюстративный дизайн отдельных фрагментов харбинской периодики (имеется в виду, прежде всего, газета «Рубеж», ее страницы с «календарными» стихами и шаржами, где по крупицам И. Е. Лощилову пришлось собирать творческое наследие Логинова), наглядно свидетельствуют об этом [Лощилов, 2021].
Чаще всего восстанавливать те или иные фрагменты утраченной литературной истории восточной ветви русской эмиграции приходится по страницам эмигрантских изданий. По харбинской периодике, в частности по газете «Рубеж», были реконструированы фрагменты творчества Павла Булыгина, писателя, путешественника и историка, представителя не восточной, а западной ветви русской эмиграции, ярко отметившегося в харбинском «Рубеже».
Надо сказать, что даже уже достаточно известные авторы русского Харбина, чьи книги отдельными изданиями были выпущены в начале 2000-х гг., столь слабо изучены с историколитературной стороны и со стороны поэтики, что нередко обнаруживаются очень значимые факты. К примеру, в процессе исследования творчества А. Ачаира были замечены необычные свойства его строфики, обусловленные его склонностью к чрезвычайно редкой в русском стихосложении кватеральной рифмовке (см.: [Русский Китай..., 2021, с. 138–156]), и она настолько сильна, что можно с уверенностью сказать, что по частоте использования этой редкой формы с Ачаиром не может сравниться никто из русских поэтов. И. Е. Лощилову и И. С. Полторацкому удалось восстановить факт опосредованного эпистолярного обращения А. Ачаира к М. Цветаевой и возможного влияния, оказанного на Цветаеву А. Ачаиром (см.: [Лощилов, Полторацкий, 2021]).
Таким образом, литература восточной ветви, существуя достаточно автономно, была ориентирована как на западную эмигрантскую культуру, так и на русские неэмигрантские контексты и не только воспринимала их традиции, но и сама активно влияла на них.
Обобщая сведения, полученные о харбинских поэтических школах, можно констатировать, что творчество харбинцев теснейшим образом связано с традициями русской дореволюционной литературы, и здесь у представителей восточной эмиграции преобладает интерес к акмеистам (Н. Гумилеву, А. Ахматовой и М. Кузмину, прежде всего), символистам (и особенно к А. Блоку), а также к И. Северянину. Но еще важнее то, что для всех харбинцев характерна приверженность к литературному эксперименту, к редким и новым ритмическим и строфическим формам, к экспериментированию с жанрами. Оказавшись на востоке, поэты и писатели пытались перенести на русскую почву восточные поэтические и прозаические жанры, прежде всего миниатюрные, пытались ассимилировать приемы восточного искусства. В исследованиях показано также, что харбинцы и шанхайцы ввели в русскую поэзию ряд новых тем: ориентальную топонимику, японские и китайские подтексты, разработали систе- му ассонансов и аллитераций, позволяющих имитировать восточные языки по-русски и т. п. Все перечисленные способы поэтического экспериментирования были рассмотрены не только на материале поэзии, но и на примере прозы писателей восточной эмиграции: Б. Юльско-го, Б. Волкова, Б. Апрелева и Б. Ильвова и др.
Борис Апрелев и Борис Ильвов – это харбинские маринисты, чья проза наследует традиции русской маринистики, одновременно акцентируя в морских текстах восточные ноты (см.: [Русский Китай..., 2021, c. 257–283]). Ценность прозы русского Китая можно определить также при анализе произведений малоизученного писателя Бориса Юльского, о котором в «Поэме без предмета» В. Перелешина говорится как об одном из самых одаренных прозаиков русского Китая, изобразившего в своих рассказах «…тайгу, “зеленый легион”, / Рутину службы в Тоогэне» (см.: [Куликова, 2020]). Исследовательскими усилиями эти забытые имена восточных эмигрантов возвращаются современному читателю. Так произошло и с Борисом Волковым: современникам он был известен по публикациям в харбинских, шанхайских, парижских, пражских и др. изданиях, где печатался под разными псевдонимами; позже память о нем почти утратилась в истории литературы. И вот пришло время заново переосмыслить, переиздать прозу и поэзию Волкова, для которой характерны автобиографизм (а биография Волкова чрезвычайно интересна как наглядный пример судеб восточной ветви русской эмиграции) и монгольский колорит («Потомок Чингис-хана») (см.: [Проскурина, 2020]).
Не только в историко-литературном, но и в теоретическом срезе феномен восточной эмиграции осмыслялся нами в работах о Сибири и Дальнем Востоке первой половины XX в. Е. Н. Проскурина последовательно проводила параллели между восточной и западной эмиграцией, рассматривая, к примеру, публикации харбинцев в парижском журнале «Русские записки» (см.: [Русский Китай..., 2021, с. 178–206]). Западные эмигранты считали восточную ветвь русской эмиграции вторичной, но, пожалуй, пришло время пересмотреть это мнение. Характерен описанный Е. Н. Проскуриной эпизод из истории журнала: «Русские записки», изначально позиционировавшие себя как парижско-шанхайское издание и публиковавшие харбинцев – А. Ачаира, А. Несмелого, Б. Волкова, имевшие рубрику «Восточное обозрение», со временем отказались и от рубрики, и от произведений восточных эмигрантов, став сугубо парижским изданием. Осмысление того, как разошлись западная и восточная ветви русской эмиграции, показывает, что важны не только объединяющие моменты в культуре эмигрантов, но и новые, специфичные тенденции, которые присущи только восточной эмигрантской культуре.
Одно из качеств, обеспечивающих эту новизну, – особый автобиографизм поэзии и прозы восточных авторов. История русской диаспоры в Китае, особенно эмигрантской, оказалась очень короткой – она уложилась в несколько десятилетий. Мало кто из восточных писателей-эмигрантов окончил свои дни в Китае, харбинцы либо возвращались на родину, либо рассеивались по миру. Столь резкие переломы в судьбах предельно обостряли мемуарное начало, которое было сильно и в западной эмигрантской литературе, но восточные писатели-эмигранты еще интенсивнее ощущали завершенность эмигрантской истории, пытались запечатлеть собственную судьбу на фоне погибшего, разрушенного мира. Контраст продолжающейся автобиографии и завершенной истории русского Китая присущ и поэзии, и прозе, и мемуаристике восточных эмигрантов.
Харбинской мемуаристике, как документальной, так и художественной, посвящен еще один пласт наших исследований. Русская восточная эмигрантская мемуаристика очень обширна, и, несмотря на то что прошло уже более полувека с тех пор, как не существует русский Китай, мемуары о нем появляются непрерывно, так, например, только что, в 2021 г. вышла книга воспоминаний Н. Николаевой «Жили... были... харбинцы» [2021]. Более ранние воспоминания Н. Николаевой уже были предметом нашего исследования [Русский Китай..., 2021, c. 319–335], как и роман Д. А. Пригова «Катя китайская», основанный на мемуарах жены писателя, харбинки Надежды Буровой (см.: [Русский Китай..., 2021, c. 336–359]). Такие вещи позволяют заключить, что история русского Харбина не исчерпана по сей день. Оказалось, что харбинские мемуары – это огромный пласт материала, интересный не только сам по себе, подходящий для исследования с точки зрения поэтики текста-воспоминания, но и позволяющий восстановить неизвестные персоналии.
Выводы
Если обобщать трехлетний опыт нашей работы над темой, то нужно отметить, что она открывает огромное исследовательское поле, однако материал для исследований собирается по крупицам ввиду архивной редкости изданий и рукописей восточной эмиграции. Не менее редки издания 1918–1920 гг. поэтов и писателей, работавших в Сибири и на Дальнем Востоке, и уж тем более единичны исследования дальневосточных и сибирских фрагментов биографий и поэтики этих авторов. Каждая персоналия, каждая хотя бы в общих чертах восстановленная творческая биография таких писателей, как Борис Бета, Василий Логинов, Николай Щеголев, Николай Петерец, Борис Волков и др., – это большая исследовательская удача.
Творчество поэтов Сибири и Дальнего Востока имеет свою специфику. Во-первых, оно адаптирует на русской почве оригинальные жанровые формы и мотивы дальневосточных литератур. Во-вторых, обособленная литературная среда русского Китая и сибирский футуризм ХХ в. располагали к тому, что эксперименты поэтов восточной эмиграции оказались оригинальными, ими образованы ценные маргиналии истории русской литературы. В-третьих, исследования убеждают в неповторимом характере восточной мемуаристики, жанре, который живет и развивается по сей день. Уже к концу 1920-х гг. русский Китай оказался изолированным от СССР, а затем, после Второй мировой войны, вынужденно началась новая эмиграция – и уже не из России, а из русского Китая. Вместе с ней новая самобытная культура Дальневосточного региона, едва успевшая к тому времени набрать силу, стала рассеиваться по всему миру, порой исчезая почти бесследно. Это и подталкивает исследователей к поиску и изучению ее позабытых или полузабытых страниц – пока прошлое от нас еще не окончательно отдалилось.
Список литературы Сибирь и Дальний Восток первой половины XX века как пространство литературного трансфера
- Абрамова К. В. Интертекстуальные связи в лирике Николая Щеголева: Пастернак, Маяковский, футуристы // Изв. Урал. федерал. ун-та. Серия 2: Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3. С. 164-185.
- Брызгалова Е. Русская сатира и юмористика начала XX века. Тверь: ТвГУ; Золотая буква, 2002. 203 с.
- Вульфина Л. Неизвестный Ре-Ми. Художник Николай Ремизов. Жизнь. Творчество. Судьба. М.: Кучково поле, 2017. 304 с.
- Денисова Е. А. Проза В. Марта: некоторые литературные связи и контексты // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14, № 10. С. 2901-2905. https://doi.org/10.30853/ phil210517
- Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронтира: культура и литература русского Харбина. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. 437 с.
- Забияко А. А., Забияко А. П., Левошко С. С., Хисамутдинов А. А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. 462 с.
- Забияко А. А., Эфендиева Г. В. «Четверть века беженской судьбы...» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. 428 с.
- Забияко А. П., Забияко А. А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. 340 с.
- Капинос Е. В., Лощилов И. Е. Николай Асеев: Из публикаций в печати Дальнего Востока (1918-1920) // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 292-322. https://doi.org/10.25205/2307-1737- 2020-1-292-322
- Капинос Е. В. Силуэты харбинских поэтов в «Поэме без предмета» В. Перелешина: Николай Петерец // Критика и семиотика. 2021. № 2. С. 383-401. https://doi.org/10.25205/2307-1737-2021-2- 383-401
- Кириллова Е. О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая. Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917-1922 гг. (Поэтические имена, идейно-художественные искания). Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. 636 с.
- Кириллова Е. О. Ориентальные темы, образы, мотивы в литературе русского зарубежья Дальнего Востока (Б. М. Юльский, Н. А. Байков, М. В. Щербаков, Е. Е. Яшнов). Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2015. 276 с.
- Крусанов А. В. Русский авангард 1907-1932 годов (Исторический обзор): В 3 т. М.: НЛО, 2003. Т. 2, кн. 2: Футуристическая революция (1917-1921). 608 с.
- Куликова Е. Ю. Бунинский фон в «Белой мазурке» Бориса Юльского // Филологический класс. 2020. Т. 25, № 3. С. 39-47.
- Куликова Е. Ю. «Японские акварели» Виталия Рябинина: жанровые и строфические эксперименты // Сибирский филологический журнал. 2021. № 3. С. 100-112. https://doi.org/10.17223/ 18137083/76/8
- Лощилов И. Е. Поэзия Василия Логинова: харбинский отголосок «Сатирикона» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14, № 12. С. 3656-3660. https://doi.org/10.30853/ phil20210603
- Лощилов И. Е., Полторацкий И. С. «Первая областническая сибирская поэма...»: Алексей Ачаир, «Казаки» (1927) // Сюжетология и сюжетография. 2021. № 1. С. 281-337. https://doi.org/10.25205/2410-7883-2021-1-281-337
- Николаева Н. «Жили... были... харбинцы». Воспоминания. Рига, 2021. 395 с.
- Проскурина Е. Н. Борис Волков. Возвращение забытого имени // Филологический класс. 2020. Т. 25, № 4. С. 60-69.
- Развлекательная культура Серебряного века. 1908-1918 / Э. Анри-Сафье, И. З. Белобровцева, Н. А. Богомолов и др., сост. Н. Я. Букс, Е. Н. Пенская, отв. ред. Е. Я. Курганов. М.: ИД ВШЭ, 2017. 463 с.
- Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Исторический опыт взаимодействия культур. Серия сб. материалов Междунар. науч. конф. / Под ред. А. П. Забияко, А. А. Забияко. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2001-.
- Русский Китай и Дальний Восток. Поэзия, проза, свидетельства. Коллективная монография / Отв. ред. И. В. Силантьев, Е. В. Капинос, И. Е. Лощилов. СПб.: Алетейя, 2021. 362 с.
- Русский Харбин, запечатленный в слове: Серия сборников научных работ преподавателей и студентов кафедры русской филологии АмГУ / Под ред. А. А. Забияко, Е. А. Оглезневой, Г. В. Эфендиевой. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006-.
- Силантьев И. В., Шатин Ю. В. Стихотворное мастерство Беты (Б. В. Буткевича) // Новый филологический вестник. 2021. № 3 (58). С. 225-235. https://doi.org/10.54770/20729316_2021_3_225
- Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л.: ACADEMIA, 1924. 139 с.