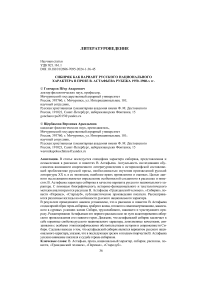Сибиряк как вариант русского национального характера в прозе В. Астафьева рубежа 1950-1960-х гг
Автор: Гончаров П.А., Щербакова В.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется специфика характера сибиряка, представленная и осмысленная в рассказах и повестях В. Астафьева. Актуальность исследования обусловлена вниманием современного литературоведения к историософской составляющей проблематике русской прозы, необходимостью изучения произведений русской литературы ХХ в. в ее эволюции, наиболее ярких проявлениях и оценках. Целью данного исследования является определение особенностей созданного в рассказах и повестях В. Астафьева характера сибиряка в качестве варианта русского национального характера. С помощью биографического, историко-функционального и текстологического методов анализируются рассказы В. Астафьева «Гражданский человек», «Сибиряк», повести «Перевал», «Стародуб», публицистические произведения писателя. Рассматриваются различные взгляды на особенности русского национального характера. В результате проведенного анализа установлено, что в рассказах и повестях В. Астафьева создан яркий образ героя-сибиряка, храброго воина, готового к самопожертвованию, закаленного в суровых условиях жизни Сибири, трудолюбивого, знающего и чувствующего природу. Редактирование Астафьевым его первого рассказа шло по пути акцентирования сибирского происхождения его главного героя. Доказано, что астафьевский сибиряк заключает в себе коренные свойства русского национального характера, дополненные качествами, связанными с особыми этногеографическими обстоятельствами истории и современности Сибири. Сделаны выводы о том, что астафьевский сибиряк является вариантом русского национального характера, указано, что в последующем зрелом и позднем творчестве В. Астафьева усилено внимание писателя к судьбе героев-сибиряков.
В. астафьев, проза, национальный характер, сибиряк, рассказы, повести, «гражданский человек», «перевал», «стародуб»
Короткий адрес: https://sciup.org/148328507
IDR: 148328507 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2024-1-36-45
Текст научной статьи Сибиряк как вариант русского национального характера в прозе В. Астафьева рубежа 1950-1960-х гг
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-1800408, ; Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского.
Название статьи обязывает вначале указать на используемое в данной работе определение национального характера. В соответствии с одним из принятых в социальной философии определений национальный характер есть «совокупность наиболее устойчивых психологических качеств, сформированных у представителей нации в определенных природных, исторических, экономических и социально-культурных условиях ее развития» [10].
Здесь же заметим, что связанные с этим феноменом понятия «литературный характер», «тип», «персонаж», «герой», «действующее лицо» и т. п. используются далее также в общепринятом значении.
Сформулированная и заявленная здесь проблема определяла творческие искания не только Астафьева-художника, создавшего яркую галерею героев и антигероев, отражающих и выражающих специфику русского национального характера, но и Астафьева-публициста, пытающегося осмыслить свой опыт и опыт литературной классики в этом направлении. В статье «Во что верил Гоголь» (1989) В. Астафьев утверждает: «Весь секрет, видимо, в том, что в основе своей человек, значит, и его характер, прежде всего, видимо, национальный русский характер, в худших и лучших своих проявлениях, особенно в худших, — мало переменчив. Вот почему в далеких гоголевских персонажах мы узнаем себя, обнаруживаем свои пороки и то самое, о чем, качая головой, говаривал творец: «Oх уж этот русский характер!», «Ох уж эта наша русская дурь!». Правда, мы не раз уже, и очень громко, объявляли себя и общество свое самым лучшим, самым передовым, разом переделавшимся, устремленным к какой-то качественно новой жизни <…>» [2, т. 12, с. 376]. Не только в данной статье, написанной на пике интереса писателя к специфике русской души, ее взлетам и особенно изъянам, к обозначившимся перестроечным переменам, но и во многих предшествующих и более поздних своих произведениях, В. Астафьев склонен обращаться к этой актуальной для него проблеме, достаточно сложной и для реализации в художественном творчестве, и для теоретического истолкования.
Материалы и методы исследования
Не углубляясь в предельно сложную и принципиальную дискуссию о существе русского национального характера, примем за основу те определения и свойства русского национального характера, которые выделены одним из авторитетнейших русских философов Н. А. Бердяевым. В силу обстоятельств его собственной жизни (выслан из страны), в силу особенностей эволюции его взглядов на историю России, на «русскую идею», на русского человека (от марксизма к персонализму)
этого философа трудно заподозрить в субъективизме, в крайностях суждений о русском национальном характере. Обращает на себя внимание, что Н. А. Бердяев еще до начала качественных характеристик в числе основополагающего свойства «русской души» выделяет ее «противоречивость и сложность». Философ объясняет эту сложность и противоречивость «тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [4, с. 10]. Но если признать эту характеристику актуальной для России в целом, то она тем более важна для ее азиатской части, для Сибири.
Интересно, что один из известных русских этногеографов и этнологов Л. Н. Гумилев отрицал само понятие национального характера. Тем более интересно, что современные исследователи особенностей русского народа не могут обойтись без популяризованного им понятия «этноген е з».
В этой связи представляется репрезентативным замечание историка и этнографа И. И. Шангиной о русском народе в целом: «Своеобразие культуры русского народа, его образа жизни и менталитета определялось множеством факторов: этногенезом, основными видами хозяйственной деятельности, религией, формой государственного образования, историческими событиями» [13, с. 9].
Оставаясь понятием целостным и устойчивым, русский национальный характер в его конкретных проявлениях, вероятно, включает в себя некоторые специфические особенности, связанные с различным воздействием указанных выше и иных факторов. Так, шолоховский Григорий Мелехов, бесспорно, представляет собой русский национальный характер, дополненный качествами индивидуальными и свойствами казачества как одной из этнических групп русского народа. Его вспыльчивость, доходящая до ярости, его пассионарность, воинская удаль — суть свойства и индивидуальные, и обусловленные историей казачества, его особым этногенезом.
Заметим поэтому, что существуют интересные и обоснованные, хотя и небесспорные попытки вычленить из сферы русской ментальности характеристики, относящиеся к другим отдельным этногеографическим территориям [11].
На наш взгляд, тот или иной регион, та или иная этническая общность (Русский Север, Сибирь, казачество, старообрядчество и т. п.) в силу специфики географии, климата, истории, религии, традиций, этногенеза располагают своими особыми «изводами», вариантами русского национального характера, что совершенно не умаляет их оригинальность и ценность, а лишь подчеркивает объемность понятия «русский национальный характер». Астафьевский сибиряк рассматривается в нашем случае именно в этом ракурсе. Заметим также, что один из продуктивных подходов к анализу литературных явлений в современном литературоведении традиционно «связан с восприятием литературы как одной из сфер воплощения русского национального характера» [4, с. 10].
Известно, что окончательный вариант первого рассказа В. Астафьева, опубликованного в 1951 г., через несколько лет получает иное название: рассказ стал называться «Сибиряк» (1959). Переименованием Астафьев приближает своего первого героя не только по военной специальности (связист), но и по происхождению к себе, а понятие «сибиряк» с этого момента все более наполняется в его творчестве особым духовным, нравственным и психологическим содержанием. Это, по сути, новая ипостась, новая версия русского характера, связанная и с происхождением, и с симпатичными писателю душевными свойствами, необычной стойкостью к нравственным и физическим испытаниям. Герой этого рассказа закален суровыми условиями Сибири, не боится никакой работы, даже самой тяжелой и грязной. Неслучайно Мотя Савинцев налаживает связь через болотистое русло ручья, а гибель встречает посреди некогда породившего его «ржаного поля». Первый вариант рассказа имел другое название («Гражданский человек» — 1951) и совсем иной — счастливый финал. В том варианте рассказа Мотя Савинцев лишь ранен, а в госпитале узнает о награде.
В окончательном варианте сибиряк Матвей Савинцев, отправляясь на смертельно опасное задание, по существу, осознанно жертвует собой. Допустимость и необходимость самопожертвования ради семьи, рода, родины — одно из свойств русского национального характера, происходящее из его «аскетически-монаше-ских», христианских истоков. Готовность положить душу за други своя — одна из главных православных доблестей. Эта мысль, как известно, берет свое начало от Евангелия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13). Вряд ли Астафьев в 1959 г. осознает связь поворота сюжета своего рассказа с актуализацией христианского мотива. Тем более связь этого наметившегося мотива с распространенным в русском старообрядчестве самосожжением ради избавления от антихристовых соблазнов и гонений.
Необходимо отметить, что В. Астафьев оказался в плане акцентирования сибирской идентичности своих героев наиболее последовательным среди «сибирских» писателей. У А. Вампилова, В. Распутина, С. Залыгина, В. Шукшина тенденция вычленения сибиряка из общего понятия «русский характер» прослеживается менее четко и, наверное, поэтому определена наиболее четко лишь шукшиноведами. По мотивированным и обоснованным предположениям известного шукшиноведа С. М. Козловой, в художественном мире В. Шукшина лишь сибирский вектор ведет «не к концу русского света, а к его новому началу» [6, с. 4–9]. В прозе В. Астафьева эта идея, судя по первому рассказу, намечается рано и противоречиво развивается практически во всех произведениях, достигает полноты и объемности в образе сибиряка-старообрядца в его последнем романе.
Бесспорно, что в выборе и предпочтении героя-сибиряка значительную роль играло сибирское происхождение автора рассказа. Однако литература 1940–1990-х гг. и помимо В. Астафьева уже «выдвинула» в качестве героев отважного и расторопного алтайца Валегу («В окопах Сталинграда» В. Некрасова), богатыря-сибиряка, разведчика Аниканова («Звезда» Э. Казакевича), сибиряков в «белых полушубках» в заснеженном Подмосковье («Генерал и его армия» Г. Владимова).
Результаты
Очевидно, что первый астафьевский рассказ открывает (точнее, пока еще абрисно намечает) в творчестве прозаика тип героя-сибиряка. Астафьевский сибиряк — человек мужественный, жизнестойкий, свято соблюдающий долг перед большой и малой родиной, перед домом, родной деревней, перед семьей.
Трагический финал окончательного варианта рассказа свидетельствовал об утверждении особого аспекта в изображении войны, аспекта, усиливавшегося у В. Астафьева на протяжении всего его творчества и приведшего его в романе «Прокляты и убиты» к изображению Великой Отечественной войны в качестве Апокалипсиса. Измененное же название первого рассказа ставит на первый план сибирскую этническую идентичность главного героя, отражая наметившуюся у писателя тенденцию к поэтизации образа Сибири и сибиряков.
В эпизоде гибели Моти Савинцева в ответ на «последнюю заповедь» главного героя его фронтовой товарищ Коля Зверев «завыл и затопал ногами. — Да какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться?! Ты есть сибиряк! Понятно?! И ты живой будешь! Понятно?!» [2, т. 1, с. 82].
Переосмысленный трагический финал рассказа (смерть Савинцева), троекратное упоминание о крестьянском сибирском роде Матвея, усиленные новым названием, отсылающим к алтайским корням персонажа, позволяют сделать вывод о том, что все это является результатом поиска «своего» героя, поиска, характерного для В. Астафьева 1950–1960-х гг.
Матвей Савинцев, конечно, не исчерпывает и даже «не называет» всех свойств характера астафьевских героев-сибиряков. Вспомним, что различие между персонажем и характером отмечал еще Аристотель: «Действующее лицо будет иметь характер, если <…> в речи или действии обнаружит какое-либо направление воли, каково бы оно ни было <…>» [1, с. 44.]. «Направление воли» становится своеобразным маркером характера. Крестьянское трудолюбие и привязанность к родной алтайской деревне Каменушке, выносливость, воспитанная суровым климатом Сибири, самоотверженность, переходящая в готовность к осознанному самопожертвованию — это основы характера, которые в последующих произведениях В. Астафьева будут дополняться иными важными качествами. Проявлению характера могут способствовать незначительные, на первый взгляд, поступки и события. Данной точки зрения придерживался Г. Э. Лессинг, который отмечал, что «с точки зрения поэтической оценки самые великие дела те, которые проливают наиболее света на характер личности» [8, с. 38–39]. Именно поступки, по мнению Лессинга, составляют события, «историю» героя и являются воплощением характера. Выполнить приказ, невзирая на опасность гибели, смерти, исполнить волю командира вопреки желанию выжить — именно этим руководствуется астафьевский воин-сибиряк.
Несколько иной подход к определению характера развивает современный теоретик литературы Л. В. Чернец. По ее мнению, это те социально «значимые черты», которые находят свое воплощение в действиях и мыслях героя. Именно неповторимое сочетание этих черт, по мнению литературоведа, способствует проявлению индивидуальности героя, тем самым выделяя его из ряда прочих [12, с. 9]. Подобное толкование характера во многом корреспондирует с рассуждениями литературного критика А. Н. Макарова. Он отмечал, отзываясь о произведениях писателя конца 1950-х — середины 1960-х гг.: «Астафьев нарисовал портрет не одного человека, а портрет характера, способность которого нравственно возвышаться есть следствие нравственного возвышения народа» [9, с. 764].
В некотором роде сибирский вариант («извод») русского национального характера присутствует уже не только в первом рассказе, но и в первой повести В. Астафьева «Перевал» (1959). Трифон Летяга, дядя Роман, Дерикруп, «братаны»
Гаврила и Азарий, Сковородник — не все сплавщики, встреченные Илькой Верстаковым на горной сибирской реке, являются «коренными» сибиряками, «чалдонами». Здесь собрался «разношерстный народ», «потревоженный гражданской войной, сдвинутый с родных мест разрухой и голодом населением» [2, т. 2, с. 54]. Эта мозаика происхождения плотогонов отражает специфику миграции населения всей России и Сибири в двадцатом столетии. Но практически все наделяются автором тактом, смелостью, широтой души, состраданием к обездоленным, трудолюбием. Это, в соответствии с логикой В. Астафьева, тоже оказывается составной частью характера обитателя Сибири.
Появившаяся на рубеже 1950–1960-х гг. «деревенская проза», отличающаяся интересом к традициям национальной жизни, не могла развиваться без внимания к национальному характеру. У В. Астафьева это герой с крестьянскими корнями, сибиряк, охотник и воин, судьба которого оказывается созвучной с биографией писателя.
В литературоведении сложилось мнение, что художественный мир писателя характеризуется именно наличием особого типа литературного героя [7, с. 97–134]. Прозаик часто создает образы героев, взяв за основу их отношение ко всему, что их окружает, в частности, к такому важному для литературы в целом (а для Астафьева — в самой значительной степени) феномену как природа. С этой точки зрения, в творчестве писателя можно выделить два противопоставленных друг другу типа. Первый тип — «антиприродный» (Амос из «Стародуба», Гога Герцев в «Царь-рыбе»), он, как правило, видит в окружающем его мире только возможную выгоду, второй становится неотъемлемой частью природы, ее «продолжением».
Ко второму типу следует отнести молодого таежника Култыша из повести «Стародуб» (1960). В связи с этой повестью есть необходимость привести одно из важных замечаний Н. А. Бердяева: «Два противоположных начала легли в основу формаций русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетиче-ски-монашеское православие» [4, с. 11]. В астафьевской повести эти начала внешне разведены: Култыш бежит, уходит из старообрядческих Вырубов. Но это сюжетно-фабульное «разведение» оказывается сущностным возвращением героя к «аскетически-монашескому православию». Смерть праведного (в астафьевской аксиологии), но изгнанного из псевдостарообрядческих Вырубов Култыша изображается в православных традициях, дополненных характерным для В. Астафьева пантеизмом: «Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток перешибал запах тления. В руке Култыша вместо свечи цветок стародуб. Такой же, как и тот, что хранила за образами Клавдия» [2, т. 2, с. 179]. Показательно, что это описание имеет место и в первом и окончательном вариантах повести [2, т. 13, с. 407]. «Образа», как и «свеча», вместе с преодоленным «тлением» явлены в финале произведения в дополнение к «природной» основе характера и истории Култыша.
Култыш спасается в одиночестве, в горах, вдалеке от людских пороков, от «мира», который его не принимает. Нетрудно заметить близость этого типа с Акимом из повести «Царь-рыба» (1976). Это так называемые природные герои. Образ и функция «природного человека» Акима, как и его литературного «предшественника» Култыша, определяются как «заострение слабости» героев перед лицом зла. Однако такое акцентированное изображение «слабости» стало намеренным под- черкиванием остроты этических и экологических проблем: «некому, выходит, постоять за разоряемую и уничтожаемую Сибирь» [6, с. 200]. Стоит обратить внимание на то, что по отношению к астафьевским произведениям речь может идти не об эстетической «слабости» образов главных героев «Стародуба» и «Царь-рыбы», а о слабости волевого начала в их натурах. «Склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость» [4, c. 11] могут быть увидены писателем в одном персонаже-сибиряке (Фаефан в «Стародубе»), а могут быть и «разведены» по разным персонажам (Амос и Култыш в «Стародубе», Гога Герцев, «браконьеры» и Аким в «Царь-рыбе», Мохнаков и Борис в повести «Пастух и пастушка»). Здесь бердяевский тезис о русском народе как «поляризованном», совмещающем «противоположности» находит свое очевидное подтверждение.
Астафьевский Фаефан, как и Култыш, как и Аким, и повествователь-рассказчик в «Царь-рыбе», растворившиеся в мире тайги, объединены не только трепетным отношением к родной для них природе, но и особой нравственной чистотой, вольнолюбием, той самой «вольностью», которую Н. А. Бердяев считает одним из основополагающих свойств «русской души». Здесь необходимо заметить, что вольнолюбие астафьевских (а в соразмерной степени — шишковских, шукшинских, залыгинских, распутинских, вампиловских) персонажей-сибиряков имеет свои исторические корни: в Сибири крепостное право не распространялось на крестьян — основную массу русского народонаселения. Многие предки сибиряков бежали в Сибирь, в том числе и от крепостного права, другие прошли через сибирскую каторгу и ссылку. Об этом помнит и астафьевский Фаефан, рассказывая Култышу о «первопоселенцах» верхнего Енисея.
Сыновнее, трепетное отношение к природе как к матери — «<…> тайга женит своего сына!», «матушка тайга» [2, т. 2, с. 136] — является идентифицирующим свойством астафьевского сибиряка. Для Култыша характерно и пантеистическое почитание тайги как божества: «великая сотворительница тайга» [2, т. 2, с. 176]. Собственно пантеизмом начиналось приобщение В. Астафьева к вере, вылившееся затем в актуализацию в его творчестве ряда христианских идей и мотивов, присущих уже его произведениям 1970–1990-х гг.
В. Астафьев, благодаря выработанной им манере лирико-автобиографического повествования, вероятно, и сам, несмотря на условность такой идентификации, может претендовать на то, чтобы быть воспринятым как часть того национального характера, над спецификой которого он размышляет. Одним из главных его свойств в этом смысле окажется пантеизм, ощущение слитности с природой, свойство русского человека, выраженное еще в «Слове о полку Игореве («Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поля мерит от великаго Дону до малаго Донца»). «Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда. Но не с природой, всех нас породнившей» [3, с. 691]. Искренность и органичность астафьевского восприятия природы усилены названием этой итоговой ритмизованной затеси-миниатюры — «Прощаюсь».
Но пантеизм астафьевских героев, захватывающая их «природная, языческая дионисическая стихия» [4, с. 11] имеет, вероятно, не только русские, но и иные особые этнические истоки. Сибирские татары, киргизы, эвенки («тунгусы»), буряты, долганы, представители родственных русским этносов и этносоциальных групп (казаки, украинцы, белорусы, старообрядцы и др.) на равных с «чалдонами» правах населяют произведения писателя. Вероятно, они привносят в образ сибиряка не только свою «крови и плоть», но и особенности темперамента, мировосприятия. Пантеизм коренных северных народов, глубинно связанный с тенгриан-ством и шаманизмом, русское христианское чадолюбие соединились, по всей видимости, в безымянной «ветренке» — в матери Акима и его единоутробных «ка-сьяшек». «Ветренке» русской, но имеющей в себе и иную «кровь». Слушая произносимые «изорванными в клочья» губами, «наговоры» об «архангельском ключе» и «коспоте», спасающих от смертельных мук, Аким пытается «вразумить» погибающую мать. «— Се молотис языком, неверующая дак! — сердился Аким и тут же укрощал себя. — Господь, он русский, а у тебя мать долганка!
— Пох один, сыносек, сказывали зэнсыны, — смиренно ответствовала мать, опустив страданием испеченные глаза» [2, т. 6., с. 255]. — «Неверующими» считали себя и окружающих многие и в Сибири, и в России в целом, но восходящие к христианским, исламским, буддийским и иным, представления о мироустройстве оказывались сильнее официально провозглашенного атеизма.
Суеверия и наваждения, связанные с обольстительной шаманкой-эвенкийкой, преследуют героев В. Шишкова и В. Астафьева. Здесь будет уместно вспомнить и о названном в предсмертной автобиографии В. Астафьева прадеде-старообрядце, пришедшем в Сибирь в качестве поводыря «из Каргопольского уезда», о проявляемой обитателями Овсянки жалости к ссыльному Васе-поляку, об эвенкийской («тунгусской») прабабке В. Распутина, о «мордовских корнях» русского писателя В. Шукшина и его симпатиях к казачеству. В этом смысле реальная и изображенная писателями-сибиряками Сибирь подобна (как и вся Россия) колыбели и обиталищу многих этносов и народов, одним из своеобразных воспитанников и насельников которой и оказался герой-сибиряк.
Заключение
Безусловно, что в изображении В. Астафьева сибиряк обладает и целым рядом других важных свойств. Среди них — бунтарство, физическая выносливость, вместе с экзистенциальным одиночеством, неприкаянностью, вынужденным сверхранним взрослением, занимают не последнее место. К тому же астафьевский сибиряк не выглядит как характер застывшим, статичным. Но это уже отдельная тема для наблюдений и доказательств.
Итак, самоотверженность, допускающая самопожертвование в мирном и воинском труде, суровая мужественность и непреклонность, соединенные с вольнолюбием, обожествление природы, приятие обычаев, образа мысли и мироощущения различных населяющих Сибирь этносов, — все это объединяет свойства героев В. Астафьева рубежа 1950–1960-х гг. и позволяет отнести их к сибирскому варианту русского национального характера. С одной стороны, этот характер берет начало в жизненном опыте писателя, а с другой — является продуктом осмысления писателем социально-исторических процессов и потрясений России в минувшем столетии.
Список литературы Сибиряк как вариант русского национального характера в прозе В. Астафьева рубежа 1950-1960-х гг
- Аристотель. Поэтика; Риторика. Санкт-Петербург: Азбука, 2013. 346 с. Текст: непосредственный.
- Астафьев В. П. Собрание сочинений: в 15 томах. Красноярск: Офсет, 1997–1998. Текст: непосредственный.
- Астафьев В. П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952–2001 / составление, предисловие Г. Сапронова. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. 720 с. Текст: непосредственный.
- Бердяев Н. А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. Москва: Э, 2016. 512 с. Текст: непосредственный.
- Гончаров П. А., Гончаров П. П., Земляковская А. А. «Природный человек» в русской прозе XX века: монография. Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2005. 204 с. Текст: непосредственный.
- Козлова С. М. Региональная концепция национального возрождения в прозе В. М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина: Поэтика. Стиль: межвузовский сборник статей. Барнаул: Изд-во Алтайского ГУ, 1994. С. 4–9. Текст: непосредственный.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 томах. Москва: Академия, 2003. Т. 2. С. 97–134. Текст: непосредственный. 8. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. Москва; Ленинград: Academia, 1936. 518 с. Текст: непосредственный. 9. Макаров А. Н. Идущим вослед. Москва: Советский писатель, 1969. 928 с. Текст: непосредственный.
- Науменко Л. И. Национальный характер // Социология: энциклопедия / составители А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. Минск: Книжный дом, 2003. 1312 с. URL: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/ sociological/articles/1038/nacionalnyj-harakter.htm (дата обращения: 23.12.2023). Текст: электронный.
- Сибирский характер как ценность: монография / под редакцией М. И. Шиловой Красноярск: Изд-во КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. Т. 5. 256 с. Текст: непосредственный.
- Чернец Л. В. Тип персонажа и его эволюция // Вестник МГПУ. Сер. Филология. Теория языка. Языковое образование. Москва: Изд-во МГПУ, 2016. № 4. С. 8–16. Текст: непосредственный.
- Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники: энциклопедия. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003. 360 с. Текст: непосредственный.