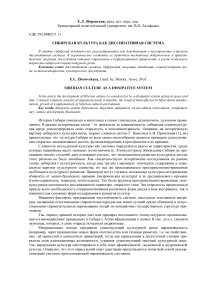Сибирская культура как диссипативная система
Автор: Зберовская Е.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье сибирский культурогенез рассматривается как действующая в пространстве и времени диссипативная система. В неравновесное состояние ее приводили постоянные добровольные и принудительные миграции, последствия которых отражались в бифуркационных проявлениях, в росте комплементарности сибирской социокультурной среды.
Диссипативная система, бифуркация, миграции, адаптация, социокультурная среда, комплементарность, культурогенез, флуктуация
Короткий адрес: https://sciup.org/142142529
IDR: 142142529 | УДК: 392:008(571.1)
Текст научной статьи Сибирская культура как диссипативная система
История Сибири уникальна и многолика в своем этническом, религиозном, духовном проявлениях. В разные исторические эпохи – от древности до современности, сибирская социокультурная среда демонстрировала свою открытость и комплементарность. Опираясь на историческую картину сибирского культурогенеза, теорию сложных систем Г. Николиса и И. Пригожина [1], мы предполагаем, что культура Сибири во всем своем многообразии является примером существования открытых диссипативных систем, функционирующих в пространстве и во времени.
Сложность исследуемой культуры как системы определяется рядом ее характеристик, среди которых важнейшее место занимает полиэтничность. Этнокультурное обновление Сибири на протяжении многих столетий дает основание считать, что эволюционное развитие культурных систем этого региона не было линейным. Как свидетельствуют исторические исследования на ранних этапах сибирского культурогенеза, когда еще трудно улавливать этническое содержание и социальную картину культурного единства, но все же прослеживается пространственно-временная особенность культурного развития. Примером могут служить эпохальные культурно-исторические общности от медно-бронзового времени (андроновская культура) и до средневекового времени (гунно-сарматское, тюркское, монгольское). Это были крупные пространственно-временные этнокультурные системности диссипативного характера, открытого типа. Эта открытость предполагала прежде всего необходимость совершенствования различных форм диалога (как внутренних, так и внешних) как основных форм поддержания и развития культур.
Внешним фактором, придававшим неустойчивость системе, выступали постоянные миграции, вызванные естественными (переселение народов как поиск лучшей среды обитания) и искусственными (принудительные перемещения людей по инициативе государственных структур) причинами.
Так, период древней истории дает нам примеры постоянного этнокультурного проникновения и взаимодействия: пришедших в Сибирь с Алтая афанасьевцев в начале II тыс. до н.э. сменили окуневцы, которых, в свою очередь потеснили андроновцы.
Миграционные потоки придавали существующей культурной среде неравновесность (например, через привнесение новых форм скотоводства или техники ремесла), т.е. не свойственных ей ценностей и ценностных ориентаций, тогда как переселенцы в достаточной степени проявляли свои адаптационные возможности, усваивая существующий местный культурный опыт. Так, карасукская культура синтезировала в себе опыт афанасьевской, окуневской и андроновской культур. Очевидно, что этот карасукский опыт адаптации представляется попыткой новой самоорганизации системы, преодолевающей неравновесное состояние.
В процессе постоянных флуктуаций шло накопление культурной энергии, вызванной, прежде всего перемещением людей. В комплементарной культурной среде Сибири вырабатывалось ее новое качество как культурной системы, тем самым комплементарность коренного населения становится в дальнейшем основной характеристикой стабильности этнокультурной системы.
Миграционная активность населения – с одной стороны, а с другой – открытость культур перед мигрантами сохраняли неравновесное состояние культуры. Это проявлялось и в последующие столетия. Например, только в период между переписями 1622 и 1709 гг. население Сибири увеличилось в три раза – с 70 тысяч до 229227 человек. Значительную часть прироста «дали» переселенцы – беглые крестьяне (искавшие в этих краях спасения от крепостничества) и гулящие люди, коих правительство ссылало в Сибирь [2, c. 163-164]. Рассматривая колонизационное движение в Сибири, Н.М. Ядринцев отмечал, что «колонна русского населения прошла в середину, она раздвинула инородцев», «кругом этого русского населения и между ним по пустыням расположены инородцы, остатки финских, тюркских и монгольских племен» [2, c. 96-98]. Эти флуктуационные изменения сибирской культурной среды приводили к следующему бифуркационному порогу: ассимиляции русского и инородческого населения, в результате которой русские переселенцы приобретали признаки татарской, киргизской и других этнических групп. В итоге, этнически усложнившись, система представила новый элемент самоорганизации – сибирскую таксономическую группу русского этноса [3, c. 4]. Она отличается от населения Центральной России в физиологическом (сибирское население более смуглое и черноволосое), бытовом (преимущественно мучная пища), языковом (употребление не известных в Европейской России слов) и других отношениях. Енисейский губернатор А.П. Степанов в первой половине XIX в. отмечал и своеобразие нрава сибиряка: цепкость ума, смекалку, смелость, самоуверенность, флегматичность, по-этичность[4, c. 636-637].
Не рассматривая все переселенческие потоки вольной и принудительной миграции населения в Сибирь, отметим, что с открытием Транссиба и проведением столыпинской аграрной реформы на рубеже XIX – XX вв. состоялись массовые перемещения людей в регион. Например, в Енисейскую губернию хлынул огромный поток переселенцев, среди них было много белорусов, украинцев, татар, поляков, эстонцев, чувашей, латышей, латгальцев. С 1897 по 1914 г. население губернии выросло почти в два раза – с 570 тыс. человек до 1119 тыс. человек [5, c. 139].
Диссипативность сибирской этнокультурной системы сохранялась и в советский период. Наряду с добровольным переселением внешним фактором выступали принудительные миграции, осуществляемые советским руководством в 1930-е – начале 1950-х гг. Необходимо отметить, что внешнее воздействие создавалось искусственно, в соответствии с задачами мобилизационной экономики СССР, базирующейся во многом на подневольном труде. Малая заселенность и богатые природные ресурсы Сибири являлись основными условиями депортации сюда многочисленных «спецконтингентов», многие из которых не принадлежали русской этнической группе, были носителями собственной уникальной культуры (немцы, калмыки, финны, греки и т.д.). Их появление вновь придавало сложившейся системе неравновесность, обозначало ситуацию выбора этнокультурного поведения. И здесь мы снова можем наблюдать два варианта развития: ассимиляцию прибывшей этнической группы и сохранение относительной этнической самобытности. Свидетельства высланных о жизни на спецпоселении, сведения, отложившиеся в архивах, показывают разные проявлениях бифуркации и одновременно позволяют увидеть некоторую общность этнического поведения вынужденных переселенцев.
Весьма убедительно процесс ассимиляции представляет немецкая этническая группа, большая часть которой была депортирована в Сибирь осенью 1941 г. Важным показателем сохранения этнической самобытности является язык. Если в 1959 г., по данным Всесоюзной переписи населения, 72,2% немцев Красноярского края назвали родным немецкий язык, то в 1970 г. их процент снизился до 58,8%, в 1979 г. – до 44,6%, а в 1989 г. составил лишь 35,2% [6, c. 81]. Причем, как замечает А.А. Шадт, депортированные в Казахстан немцы в большей степени, чем «сибирские», сохранили свою этническую идентичность. Среди причин сохранения консолидации «казахских» немцев исследователь выделяет расовые и конфессиональные различия, различия земледельческой и кочевой культур [7, c. 131]. Важную роль в развитии ассимиляционных процессов в Сибири сыграла и комплементарность, сложившаяся у местного населения не только как нравственная ценность, но и как этнокультурная близость в ценностных ориентациях, под воздействием которой возрастали процессы этнокультурных флуктуаций.
Сама рассматриваемая немецкая этническая группа, оказавшаяся на спецпоселении, представляется достаточно открытой системой. Хотя эта открытость стала результатом не столько внутренней самоорганизации, сколько появилась благодаря воздействию внешних факторов. Так, исследователь В.Г. Чеботарева указывает на культурно-бытовую замкнутость немцев-колонистов Поволжья в дореволюционной России, которая постепенно стала преодолеваться лишь в годы советской власти [8, с. 325]. О сохранении этнической обособленности немцев-колонистов до депортации свидетельствует и незнание многими спецпоселенцами русского языка или плохое владение им.
Депортация народа в Сибирь и Среднюю Азию, дисперсный характер расселения, последующие принудительные перемещения привели к изменению этнического самосознания народа, разрушали немецкую российскую (советскую) этническую группу как сложившуюся этнокультурную систему. Репрессивные действия государства не только привели эту систему в неравновесное состояние, но и способствовали глубокой ассимиляции этноса в дальнейшем. В итоге немецкая этнокультурная система утратила значительную часть своих характеристик (сохранение языка, преимущественно внутриэтнические браки, конфессиональную принадлежность), заимствовав эти характеристики из местной поликультурной (сибирской) среды.
Вместе с тем необходимо отметить, что за сравнительно короткий срок пребывания немцев в среде сибирской культуры у них сформировались более открытые личностные качества, нежели у соотечественников на исторической родине. Наглядным свидетельством стали события постперестроечного времени, которые можно назвать бифуркационными. В последние десятилетия самоорганизация социокультурной системы немецкого российского этноса проявилась в создании национально-культурных обществ, возрождении национальных праздников (Рождество, Пасха и т.д.), немецкой кухни и фольклора и т.д. Важно, что эта этническая консолидация проходит в сибирской поликультурной среде, еще раз свидетельствуя о ее комплементарности и открытости . Возвращение в Сибирь части эмигрировавшей в 1990-е гг. немецкой группы показывает глубину флуктуационных процессов, произошедших с этносом в годы выселения, и неоднозначность постперестроечных бифуркаций. Таким образом, диссипация немецкой этнической группы проявилась не только во внешних формах (созданиях обществ), но и в обретении комплементарных ценностей, делающих этнос более открытым.
Прибалтийским «спецконтингентам», высланным в Сибирь не столько по этническому, сколько по социальному признаку (как потенциальные враги советской власти), в большей степени, чем немцам, удалось сохранить «закрытость» своей этнокультурной среды. Несмотря на идеологическое давление, многие из них и через 5 - 7 лет после переселения демонстративно не вступали в местные колхозы [9]. Свою позицию литовцы в середине 1950-х гг. достаточно открыто выражали в письмах к родственникам за границу: «Нужно обшить всех русских . „ иногда доходит до того, что содрал бы то, что у них есть, но нужно успокоиться и засунуть кулак в карман» [10]. Сотрудники комендатур, надзиравшие за «спецконтингентами», в своих донесениях отмечали, что переселенцы из Прибалтики ведут замкнутый образ жизни, вербовка агентов и осведомителей среди них шла хуже всего [11]. Очевидно, что в протестном поведении спецпосленцев отразилось неприятие советского режима, лишившего их родины и привычной социокультурной среды.
Но идеологическое размежевание было не единственной причиной сохранения закрытости «этносов». Исследуя этнические установки переселенцев из Прибалтики, И.П. Иванова приходит к выводу, что их меньшая общительность и сдержанность «являются способами защиты и сохранения этноса, главным из которых является не воинственность, а социально-психологическая автономность, закрытость, способность в неблагоприятной среде «уходить в себя». Подобное «тихое» противостояние делает этнос менее уязвимым» [12, с. 82]. Специфика такого этнического поведения имеет глубокие исторические корни - веками представители прибалтийских народов жили уединенно, на хуторах, вели хозяйство единолично, хлеб добывали тяжким трудом. «Они привыкли, прежде всего, полагаться на себя, на свои силы, свои знания, свой опыт, а уж потом рассчитывать на помощь со стороны. Поэтому редко обращаются за поддержкой, хотя сами в ней никогда не отказывают» [12, с. 76].
Этническая замкнутость отмечается и рядом исследователей, рассматривающих этнокультурную ситуацию в советский период в самом прибалтийском регионе, в частности в Эстонии. Они отмечают, что пространство русской и эстонской культур было вполне «сепаратным»: параллельно существовали различные культурные и образовательные установки, разная ментальность, религиозные уклады, алфавиты. «Диалог между культурами был возможен только в пределах советских общих знаменателей», – резюмируют исследователи [13, c. 140, 154].
Таким образом, столкновение этнокультурных систем, как показывает история Сибири, не всегда приводит к взаимопроникновению культур, но, несомненно, делает эти системы более открытыми, хотя и в разной степени.
В диссипативности сибирской поликультурной системы позволяет убедиться и колонизационный опыт Нового Света. Европейское проникновение на американский континент явило собой столкновение разных этнокультурных систем, одна из которых носила закрытый характер. Длительная изолированность индейской цивилизации привела к отчаянным попыткам борьбы местного населения за сохранение своей этнической самобытности. Вплоть до конца XVIII в. они предпринимали усилия по достижению независимости. Несмотря на мощное внешнее воздействие в лице передовой европейской техники, земледельческой и скотоводческой культуры, насаждение христианских культов, слияния коренного населения и колонистов не произошло [14, c. 175]. Однако и здесь закрытая система, приведенная в неравновесное состояние, проявляла некоторые адаптационные возможности. Они проявились в метизации переселенцев из Старого Света, заимствовании индейцами европейских сельскохозяйственных навыков. Но на это были способны лишь немногие местные племена, которым удалось приспособиться к изменившейся обстановке, не разрушая основ собственного мировоззрения [14, c. 170].
Таким образом, при анализе диссипативности культурной системы, на наш взгляд, важно учитывать несколько факторов, влияющих на ее дальнейшее состояние. Во-первых, масштабы внешнего воздействия – усиливающееся европейское проникновение на американский континент, не оставляли индейцам шансов сохранить места своего этнического проживания, самобытность и замкнутость своей культурной среды. То же можно сказать и о российской колонизации Сибири, которая с начала XVIII в. приобрела массовый характер и обернулась развитием ассимиляционных процессов для местного населения. Во-вторых, важное значение приобретают характеристики самого воздействующего фактора – например, открытость внешней системы. В случае с немцами-спецпоселенцами открытость была сформирована государством во многом искусственно, но это, в конечном итоге, позволило проявить переселенному этносу в лучшей степени свои адаптационные характеристики в диалоге с сибирским населением. В-третьих, применительно к сибирской социокультурной среде можно отметить ее так сказать «перманентную» диссипативность, готовность к постоянным флуктуациям, сформированную за длительный исторический период в ходе постоянных миграционных процессов, происходивших в регионе.
Историко-культурный опыт российских немцев показывает, что разрушение прежней социокультурной системы может иметь массу бифуркационных проявлений, предсказать которые в пространственно-временном контексте не представляется возможным. Вместе с тем современная сибирская поликультурная среда сохранила свои диссипативные свойства, о чем свидетельствуют примеры возвращения немцев из Германии на свою «вторую историческую родину».