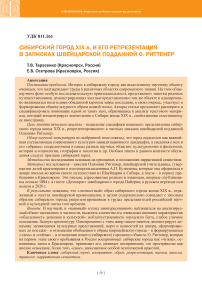Сибирский город XIX в. и его репрезентация в записках швейцарской подданной О. Риттенер
Автор: Т.В. Тарасенко Е.В. Осетрова
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Языкознание. Актуальные проблемы изучения русского языка
Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Интерес к сибирскому городу как выделенному научному объекту очевиден, что подтверждают труды в различных областях современного знания. На этом общенаучном фоне особую исследовательскую привлекательность представляют заметки рядовых путешественников, демонстрирующих частные представления о том же объекте и одновременно являющихся носителями обыденной картины мира; последняя, в свою очередь, участвует в формировании общекультурного образа всякой эпохи. Авторы статьи предлагают расширить и специфицировать понимание одной из таких эпох, обратившись к анализу текстового материала, который концентрирует впечатления о Сибири конца XIX в., свойственные посетившему ее иностранцу. Цель лингвистического анализа – выявление специфики языкового представления сибирского города конца ХIХ в., репрезентированного в частных письмах швейцарской подданной Олимпии Риттенер. Обзор научной литературы по выбранной теме показал, что город определен как важнейшая составляющая современного культурно-цивилизационного ландшафта, а сведения о нем и его «образах» сосредоточены в самых разных научных областях: культурологии и филологии, истории и социологии, географии и экологии и пр. Особым типом в данном контексте обсуждения следует признать сибирский город. Методология исследования основана на принципах и положениях нарративной семиотики. Материал исследования – заметки Олимпии Риттенер, швейцарской учительницы, гувернантки детей красноярского золотопромышленника А.П. Кузнецова, которые она оформляла в жанре письма во время своего путешествия из Швейцарии в Сибирь, а после – в период пребывания в Красноярске. Эти письма, адресованные родным и знакомым, впервые опубликованы осенью 1884 г. в газете «Демократ» швейцарского города Пайерна; в русском переводе они вышли в 2020 г. В результате показано, что «личностный» образ сибирского города конца ХIХ в., отраженный в текстах швейцарской провинциалки, в целом содержательно совпадает с типовым образом сибирского города, репрезентированным в трудах представителей российской научной и культурной элиты того времени. Выводы. И научный, и «наивный» взгляд заинтересованного наблюдателя на анализируемый объект заставляют, в частности, выделять в качестве его очевидных внешних характеристик «обделенность деньгами и культурой»: неблагоустроенность городского быта, слабое уличное освещение, бедную архитектуру. Одновременно с этим жанр писем-заметок демонстрирует динамику меняющихся культурных представлений, норм и ценностей их автора, сформированных до поездки – в отношении обобщенного образа (европейского) города – и формирующихся «здесь» и «сейчас» – в отношении нового (сибирского) городского объекта. О. Риттенер, которая на первом этапе своего пребывания в России воспринимает сибирские города как «чужие», освоившись затем в Красноярске, принимает его, начинает воспринимать это пространство как вполне освоенное, более того, «свое», наполненное особой экзотической красотой.
Сибирский город, восприятие, образ, репрезентация, оценка, письма, травелог, нарративная семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/144163517
IDR: 144163517 | УДК: 811.161
Текст научной статьи Сибирский город XIX в. и его репрезентация в записках швейцарской подданной О. Риттенер
П остановка проблемы. Интерес к сибирскому городу как выделенному научному объекту очевиден, что подтверждают современные труды специалистов в области филологии, истории, культурологии, социологии и др. [Головнева, 2017; Айзикова, 2020; Васильева, Виноградова, 2022; Клевакин, 2008; Степаненкова, 2023]. На этом общенаучном фоне особую исследовательскую привлекательность представляют заметки рядовых путешественников, демонстрирующих частные представление о том же объекте и одновременно являющихся носителями обыденной картины мира; последняя, в свою очередь, участвует в формировании общекультурного образа всякой эпохи. Авторы статьи предлагают расширить и специфицировать понимание одной из таких эпох, обратившись к анализу текстового материала, который концентрирует впечатления о Сибири конца XIX в., свойственные посетившему ее иностранцу.
В центре внимания авторов данной статьи – письма швейцарской подданной Олимпии Риттенер, которые она писала во время своего переезда в Сибирь в качестве приглашенной гувернантки детей красноярского золотопромышленника. Они содержат типичные для путешественника описания и обширные комментарии относительно встречающихся по пути следования крупных населенных пунктов: европейский город – российские столичные города – сибирские города. Иными словами, рассказ о путешествии является своеобразным тревел-текстом конца ХIХ в. и может быть проанализирован как нарративная история.
Обоснованность выбранной точки зрения подтверждают рассуждения Л.М. Гончаровой, в границах которых описаны характерные признаки травело-га: «Тревел-текст появляется в результате путешествия, совершенного автором, в нем представлены описание поездки и полученные от нее впечатления. Автор стремится зафиксировать и передать не только последовательность маршрута и увиденные объекты, но и культурные коды и национальные стереотипы, креоли-зованные элементы этно- и межкультурной коммуникации. Тревел-тексты становятся результатом взаимодействия автора с окружающим миром, отражением культурных ценностей в процессе восприятия и постижения им национальнокультурного опыта страны. Адресат тревел-текстов, воспринимая информацию о путешествиях, странах, этносах и пр., одновременно изучает новые культуры, вычленяя для себя ценностные характеристики и социальные нормы инокультур, которые необходимо осознать, сопоставить с собственными взглядами, установками и пр. и, как результат, принять или не принять» [Гончарова, 2020, с. 218].
Цель лингвистического анализа – выявление специфики языкового представления сибирского города конца ХIХ в., репрезентированного в частных письмах швейцарской подданной Олимпии Риттенер.
Обзор научной литературы. «Восприятие города», не только прямое и непосредственное [Лебина, 2021], но и его образы, глобальные и более частные (например, «ономастические портреты» [Шмелева, 2020]), являются важнейшими составляющими современного культурно-цивилизационного ландшафта. Эти образы создаются как отдельными социумами, так и отдельными личностями
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
и впоследствии начинают формировать «новое восприятие реального города» [Культурные…, с. 16]. Д.А. Алисов поддерживает идею А.М. Лолы о создании единой науки о городе и единой теории «Градоведение», в которой среди таких направлений, как «экономика города и предпринимательство», «стратегическое планирование развития города и его агломераций», «информациология города и региона», будет и «психология восприятия городской среды» [Лола, 2021].
Особым типом в данном контексте обсуждения следует признать сибирский город, которому посвящено немало современных литературоведческих исследований, вводящих в оборот разнообразный и интересный текстовый материал. В.И. Габдуллина анализирует образ сибирского города, представленный в текстах Ф.М. Достоевского [Габдуллина, 2016]. И.А. Айзикова, в центре внимания которой около 200 очерков сибирского историка и этнографа Н.А. Кострова (1823–1881), автора множества трудов по истории, социологии, этнографии Сибири, посвященных Минусинску, Томску, Барнаулу и т.д., реконструирует образ сибирского города, находящегося «в процессе сложного развития, более или менее успешного и динамичного. История того или иного города органично дополняется описанием их настоящего статуса и состояния» [Айзикова, 2020, с. 186]. Публицистические работы общественного деятеля второй половины XIX в. В.В. Берви-Флеровского (1829-1918), посвященные Тюмени, Томску, Кузнецку, Красноярску, рассмотрены в статье З.В. Степаненковой с целью выявить образ «города начала 1860-х гг., сложившийся у В.В. Берви-Флеровского в ходе его знакомства с территорией Сибири» [Степаненкова, 2023, с. 31].
Красноярск, один из крупнейших промышленных центров России, в его «художественном обрамлении» интересует И.Ю. Кудинову, обращающуюся к творчеству современных сибирских писателей, В.П. Астафьева, Э.М. Русакова, А.М. Буровского, Р.Х. Солнцева [Кудинова, 2012]. Не менее важные результаты демонстрирует исследование ассоциативного восприятия Красноярска его рядовыми жителями [Дроздова, Михайлова 2025].
Авторы последней из названных работ поддерживают понимание того, что феномен сибирского города выделен как специфический объект в самом широком научном контексте. В настоящее время проводятся исследования, посвященные его истории [Клевакин, 2008; Стась, 2016], экологической проблематике [Агафонова, 2014], культурному облику [Культурные…, 2020], бытописанию населения [Жидченко, Рыженко, 2005], частным аспектам языка [Подберезкина, Трапезникова, 2009] различных сибирских городов.
Материалом исследования являются заметки Олимпии Риттенер, швейцарской учительницы, гувернантки детей красноярского золотопромышленника А.П. Кузнецова, которые она оформляла в жанре письма, путешествуя из Швейцарии в Сибирь, а после – в период своего пребывания в Красноярске. Письма, адресованные родным и знакомым, впервые публикуются с 10 сентября по 12 ноября 1884 г. в газете «Демократ» швейцарского города Пайерна. С этого момента круг их читателей значительно расширяется, включая жителей швейцарского города Пайерна, а после и читателей-европейцев. Уже в ХХI в. Шарлотта Германн, племянница О. Риттенер, дает согласие на публикацию в России своей книги, в основу которой положены названные тексты; они переводятся на русский язык, проходят редакционную подготовку с участием сотрудников Красноярского краевого краеведческого музея и издаются под названием «От Пайерна до Красноярска: Путешествие молодой жительницы из Пайерна в 1883 г.» [Германн, 2020, с. 19].
Методология исследования основана на принципах и положениях нарративной семиотики (подробнее см.: [Тичер и др., 2017, с. 172–184]). По мнению зарубежных ученых, этот метод применим к анализу нарративного и биографического контекста, а также направлен на выявление его глубинных структур, ценностей и норм, лежащих в основе излагаемой автором истории [Тичер и др., 2017, с. 183]. В нашем случае нарративно-семиотический подход позволяет не только выявить житейские ценности и нормы швейцарской гувернантки, отраженные в ее частных письмах-заметках о Сибири, но и проследить динамику их изменения и развития.
Ход и результаты исследования . Осенью 1883 г. Олимпия Риттенер начинает свое путешествие из швейцарского города Пайерн в Красноярск с целью занять место гувернантки детей красноярского золотопромышленника А.П. Кузнецова. Путешествие длится около полутора месяцев. Свою поездку, впечатления от увиденного, опыт жизни в одном из сибирских городов она описывает в письмах к родным.
Описание городов дано в письмах в соответствии с реалиями пространственно-временных координат маршрута: европейский город – российские столичные города – сибирские города. Путешественница едет из Пайерна через Франкфурт по железной дороге до Петербурга и Москвы, часть пути до Перми совершает на пароходе по Волге, после на поезде до Екатеринбурга, далее на тарантасе до Тюмени, вновь на пароходе по Иртышу и по Оби до Тобольска, затем посещает Томск и наконец на тарантасе и телеге добирается до Красноярска. Таким образом, в записках описаны все виды транспорта, доступные путешественнику того времени.
Показательно, что автор исследуемых писем отталкивается при описании увиденного по дороге в Сибирь от исходных представлений о «своем» пространстве – типичном небольшом провинциальном европейском городе.
Сопоставление полученных во время путешествия непосредственных впечатлений с обозначенными выше усредненными представлениями может выражаться в итоговой положительной оценке. Так, прибыв во Франкфурт, путешественница вдохновенно описывает поразившую ее красоту витрин цветочных магазинов: Я с любопытством рассматривала витрины, как настоящая провинциалка; цветочные магазины меня особенно заинтересовали. Я еще никогда не видала такого изобилия цветков столь свежих и таких ослепительных цветов! [Германн, 2020, с. 20]. Особыми переживаниями сопровождается и созерцание
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
памятников Гуттенбергу и Гете: Гете для меня являлся самым великим олицетворением гения Германии. Я робко подняла глаза к этой величественной фигуре, взгляд которой я старалась уловить. Взгляд, казалось, властвует над людьми и событиями, и я почувствовала себя сильнее [Германн, 2020, с. 21].
Следующим по пути крупным европейским городом, во многом совпадающим с представлениями автора о «своем» пространстве, становится Санкт-Петербург, в котором она проводит пять дней. Город поражает Олимпию не только прекрасной архитектурой зданий и соборов, широкими улицами и проспектами, музеями и памятниками, но и интенсивным движением, двухэтажными конками. Смешение оценок и эмоций, нередко противоположных по своей природе, ощутимо в соответствующих комментариях: Я была охвачена чувством ужаса, глядя на многочисленные экипажи, которых я едва ли могла бы избежать, и ошеломлена, как провинциалка, звуками иностранного языка, надписями варварского характера над магазинами и восточным колоритом, доминирующим в центре этой европейской цивилизации [Германн, 2020, с. 23].
Москва в описании швейцарки уже в меньшей степени соответствует представлениям о европейском городе: Московские улицы имеют ясно выраженную неправильную форму, большинство из них немощеные, построенные без вкуса. Красивые здания затмеваются другими, весьма невзрачными. Пыль – невыносимая [Там же, с. 28].
Остановимся более подробно на сибирской части маршрута О. Риттенер, поскольку считаем это важным для понимания динамично меняющихся представлений и ориентиров ее индивидуальной картины мира. Однако предварим данный анализ отсылками к типичным характеристикам сибирского города, репрезентированным в трудах представителей российской научной и культурной элиты того времени.
А.Н. Клевакин, новосибирский историк, специалист в области градостроительства, так обосновывает сложности подобных путешествий: «Сибирские земли традиционно относились к провинции. В соответствии с классическими представлениями под провинцией (vinco) понималась территория, управляемая извне. <…> Огромные пространства Сибири охватить центральной властью было чрезвычайно трудно. Тем более тяжело оказывалось поддерживать цивилизованный порядок. Вот почему глубинка в качестве составной части провинциальности оставалась объективной реальностью, несмотря на смену эпох и течение времени. Сибирская глубинка – это место предельной оставленности, куда ссылали непокорных. Оставленностъ провинции и глубинки существует как “качество пространства” и выражается в обделенности тремя ресурсами: деньгами, властью, культурой. На это накладывается еще один фактор – особое устройство российской дорожной сети. Горизонтальных связей между населенными пунктами у нас практически не было. Дороги из пункта А в пункт Б равной значимости пролегали, как правило, через пункт В, который является иерархически более высоким уровнем. Между двумя деревнями самый удобный проезд – через райцентр, между райцентрами – через город. Исключения, конечно, есть, но в целом иерархически организованная дорожная сеть поддерживала провинциальность» [Клевакин, 2008, с. 6–8].
О. Риттенер в ходе поездки видит почти все города Сибири, описанные в трудах видного общественного деятеля второй половины XIX в. В.В. Берви-Фле-ровского: Тюмень, Тобольск, Томск и Красноярск. Они «соединены большими дорогами, по которым во всякое время года можно проехать на тройке» [Флеров-ский, 1958, с. 395].
Показательно, что в заметках швейцарской путешественницы эти крупные сибирские населенные пункты представлены как несоответствующие ее представлениям о европейском городе – средоточии культурных ценностей и образце комфортной среды. Описание сибирских городов представлено как «описание того, чего нет, но должно быть».
Одной из главных культурных ценностей для О. Риттенер как жительницы Европы является городская архитектура. «Архитектура (лат. Аrchitectura, от греч. Architecton – строитель, зодчество) – искусство проектировать и строить здания в соответствии с заранее намеченными целями и проектом, отвечающим техническим возможностям и эстетическим критериям местного коллектива (поселка, города, страны). Как вид искусства входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах» [Культура…, 2003, с. 109].
Прямое описание «архитектурного идеала» города в заметках швейцарской учительницы отсутствует. Однако наличие этого идеала и его ценностное содержание улавливаются в пресуппозитивной части текста, когда она фиксирует отсутствии у сибирского города какой-либо из нормативных характеристик города европейского.
Например, в записях о Екатеринбурге объектом негативной, усиленной иронией оценки становятся малая этажность зданий и ощутимая пустота пространства – отсутствие признаков активной социальной жизни: Город расположен на берегу маленькой реки. Он имеет довольно-таки хороший вид издалека, но это благоприятное впечатление стирается, когда находишься в центре города. Самые высокие дома – двухэтажные. Обычно они состоят только из одного этажа. Можно подумать, что дома построены для какого-нибудь лилипутского племени. Город казался бы мертвым, если бы не встречались домашняя птица в изобилии и корова, щиплющая свободно сочную траву [Германн, 2020, с. 33].
В заметках о Тюмени вновь внимание сосредоточено на городских видах, однако акцент сделан уже на фактуре строений. Однообразная деревянная архитектура, по мнению О. Риттенер, больше характеризует деревню, чем город; ср. следующие фрагменты: Тюмень выглядит как большая, вызывающая отвращение деревня. Все дома построены в одном стиле, нужно быть очень внимательным, чтобы их отличить один от другого. Архитектура домов очень проста. Сруб дома строится из березовых стволов, распиленных в длину пополам почти
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
под прямым углом, затем стволы кладут один на другой. Щели между ними заполняют мхом и известковым раствором. Жители выпиливают пилой проемы для дверей и окон, выбирая места по своему желанию [Германн, 2020, с. 42]; и: Гимназия в Тюмени расположена в красивом здании, жалкое окружение которого подчеркивает его великолепие. Можно подумать, увидев его, что это одинокий великан среди собрания гномов [Там же, с. 48].
Впрочем, в Тобольске швейцарка несколько смягчает критичность собственной экспертной квалификации: Мы прибыли к Тобольску к одиннадцати часам вечера (семнадцатого сентября). <...> С палубы парохода я заметила совсем рядом с портом несколько зданий довольно хорошего вида [Там же, с. 51]. О Томске же сказано, только то, что это торговый город, который мне не понравился, так как расположен в очень однообразной местности, опасной для здоровья [Там же, с. 61] .
Кроме архитектуры, путешественница обращает особое внимание на такую характеристику, как комфортность городской среды. Во всех сибирских городах на улицах нет каменных тротуаров, вследствие чего пыль – основной признак всех городов: У меня нет нужды говорить, что пыль здесь невыносимая, потому что после выезда из Москвы мы больше не встречали городов с мощеными улицами [Там же, с. 32]; или: Я была одета, как и положено в тарантасе: плохо сидящее платье, криво лежащая шаль, которая постоянно спадала в небрежные складки; галстук, который был белым, но за полчаса в тарантасе стал черным… почерневшее лицо от пыли <…>. Мои спутницы так же были малопрезентабельны, как и я. В Пайерне можно было бы принять [нас] за цыган, и зеваки толпились бы вокруг наших необычных экипажей. В сибирских городах люди привыкли к подобному зрелищу и не боятся » [Там же, с. 66].
Особо выделенным параметром городской среды для автора заметок является уличное освещение: На главных улицах сибирских городов кое-где установлены уличные фонари. Я не верю в то, что их зажигают более двух или трех раз в год, а именно – на большие государственные праздники. Эти жалкие фонари бросают на прохожих такие мерцающие и такие тусклые лучи, что жалко на это смотреть! [Там же, с. 46].
В общем, О. Риттенер выступает в роли транслятора культурных ценностей и бытовых представлений типичного европейца, для которого важным является, с одной стороны, эстетика окружающих его объектов (архитектура города, планировка улиц, кварталов и площадей, наличие памятников), а с другой – привычные нормы ежедневного социального существования и пребывания (освещенные улицы, мощеные тротуары, каменные здания и постройки, чистота и т.д.), то есть то, что сейчас называется «комфортной городской средой». По мнению путешественницы, сибирские города не соответствуют этим представлениям – архитектура и комфорт в их приемлемом варианте фактически отсутствуют. Напротив, обнаруженное в Сибири градоустройство более соответствует представлениям о деревне: одноэтажные деревянные дома, пыль, немощеные улицы, свободно разгуливающие домашние животные и птицы.
Рефлексия О. Риттенер о соответствии/несоответствии сибирского города нормативному представлению о городском объекте в целом провоцирует ее на активное выражение экспрессии и квалификационных смыслов. Это естественным образом соответствует травелогу, в жанровой манере которого составлены анализируемые письма и в основе которого лежит развернутая оценка [Жукова, Башанова, 2020, с. 213], позволяющая соотносить увиденное со взглядами, образами и установками самого автора. По мнению Н.Д. Арутюновой, оценка – результат сопоставления реальных свойств оцениваемого объекта с идеализированной моделью мира, коррелирующей с понятием «хорошего»; с другой стороны, несоответствие по какому-либо присущему данной модели мира параметру – с понятием «плохого» [Арутюнова, 1998, с. 59].
Базовая модусная рамка исследованных текстов, сформированная впечатлениями от увиденного, задана тремя значимыми квалификациями: как высокоценное в них однозначно оценивается «свое» пространство – европейский город. Санкт-Петербургу и Москве в данной оценочной иерархии отведена промежуточная локация, оказываясь в которой, автор как будто наблюдает столкновение феноменов «своей» и «чужой» цивилизаций. Сибирский город (города) – экзотический и до определенного момента совершенно «чужой» для автора – противопоставлен европейскому городу.
Важно отметить, что по прибытии в Красноярск, конечный пункт всего путешествия, рефлексивное содержание комментариев в письмах швейцарки начинает постепенно трансформироваться. Сначала оценочность меняется с «отрицательной» на «нейтральную» с просматривающимися элементами сочувствия: Город Красноярск построен в стиле русских и сибирских городов, которым я уже давала описание, и не буду повторяться. Большой пожар уничтожил его почти полностью два года назад. Вот почему видно много обожженных стен, которые не снесены. Зрелище достаточно грустное для жительницы из Пайер-на [Германн, 2020, с. 73]. В дальнейшем же характеристики Красноярска и прилегающей к нему территории становятся положительными, поскольку внимание автора захватывает новый объект, отсутствовавший в прежней личностной картине мира. Имеется в виду природа Приенисейской Сибири со всей ее красотой, масштабностью и экзотичностью: Местность в районе Красноярска – живописна. Берега Енисея окаймлены цепью холмов, довольно высоких и очень неровных. Некоторые вершины этих холмов имеют пологие спуски с обработанной землей. Другие холмы – обрывистые, покрытые пихтой, представляют собой дикие ущелья. Татары говорят, что одна из этих вершин (Такмак), высокая и округлой формы, похожа на гигантскую башню. Енисей – широкая река с водой синего цвета. Именно цветом она отличается от Оби и Волги. В миле отсюда находится монастырь [Германн, 2020, с. 73].
Находятся в письмах фрагменты, свидетельствующие, кроме того, о переосмыслении культурного образа сибирского города, о достаточной степени бытового комфорта: Учебные заведения хорошие. Имеется также педагогическая школа.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
<…> Жизнь здесь недорогая. Нет учителя начальной школы, который не имел двух-трех слуг: кухарку, горничную, кучера <…> эти господа не занимаются сельским хозяйством, как это делают обычно швейцарцы [Германн, 2020, с. 73]. Риттенер с иронией очевидца опровергает ряд типичных для европейского сознания мифов о Сибири как диком крае, в частности, миф о волках, разгуливающих по улицам города: Мы идем спокойным шагом, останавливаемся каждый раз, когда разговариваем, смеемся или играем с Зоринкой, любимой домашней собакой. Не может быть и речи о живых волках… или плюшевых, ходим открыто [Там же, с. 128].
Выводы. Таким образом, «личностный» образ сибирского города конца ХIХ в., отраженный в текстах швейцарской провинциалки, в целом содержательно совпадает с типовым образом сибирского города, репрезентированным в трудах представителей российской научной и культурной элиты того времени – ученых, этнографов, писателей, публицистов. И научный, и «наивный» взгляд заинтересованного наблюдателя на анализируемый объект заставляют, в частности, выделять в качестве его очевидных внешних характеристик «обделенность деньгами и культурой»: неблагоустроенность городского быта, слабое уличное освещение, бедную архитектуру и др. Жанр писем-заметок, кроме того, демонстрирует динамику меняющихся культурных представлений, норм и ценностей их автора: 1) сформированных до поездки – в отношении обобщенного образа (европейского) города и 2) формирующихся «здесь» и «сейчас» – в отношении нового (сибирского) городского объекта. О. Риттенер, которая на первом этапе своего пребывания в России воспринимает сибирские города как «чужие», провоцирующие критику и недовольство, освоившись затем в Красноярске, не только примиряется с «природой» сибирского города, но и принимает его, начинает воспринимать это пространство как вполне освоенное, более того, «свое», наполненное особой экзотической красотой.