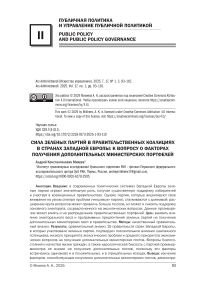Сила зеленых партий в правительственных коалициях в странах Западной Европы: к вопросу о факторах получения дополнительных министерских портфелей
Автор: Андрей Константинович Михеев
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Публичная политика и управление публичной политикой
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: в современных политических системах Западной Европы зеленые партии играют значительную роль, получая существенную поддержку избирателей и участвуя в коалиционных правительствах. Однако партии, которые акцентируют свое внимание на узком спектре проблем («нишевые» партии), сталкиваются с дилеммой: расширение круга вопросов может привлечь больше голосов, но может и снизить поддержку основного электората, сосредоточенного на экологических вопросах. Данное противоречие может влиять и на распределение правительственных портфелей. Цель: выявить влияние электорального веса и программных предпочтений зеленых партий на получение дополнительных министерских мест в правительстве. Методы: качественный сравнительный анализ. Результаты: сравнительный анализ 15 правительств стран Западной Европы, в которых участвовали зеленые партии, подтвердил положительное влияние шантажного потенциала, низкого приоритета экологических проблем и среднего приоритета экономических вопросов на получение дополнительных министерских постов. Вопросы благосостояния и качества жизни граждан, а также идеологическая близость с партией премьер-министра не влияли на получение дополнительных постов, поскольку эти факторы встречались одинаково и в положительных, и в отрицательных исходах. Выводы: изучение факторов, способствующих получению дополнительных министерских постов, демонстрирует прагматичный подход зеленых партий: они готовы уменьшить акцент на экологических проблемах ради увеличения числа правительственных должностей. Такая адаптация позволяет им участвовать в управлении различными сферами жизни и расширять свое влияние.
Зеленые партии, «нишевые» партии, коалиционные правительства, электоральный вес, Западная Европа, качественный сравнительный анализ, идеологические предпочтения
Короткий адрес: https://sciup.org/147247373
IDR: 147247373 | УДК: 329.7(4-011) | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-1-93-110
Текст научной статьи Сила зеленых партий в правительственных коалициях в странах Западной Европы: к вопросу о факторах получения дополнительных министерских портфелей
Эта работа © 2025 Михеева А. К. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Mikheev, A. K. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit
1 Институт гуманитарных исследований Уральского отделения РАН – филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, Пермь, Россия, ,
of the Ural Branch of the RAS, Perm, Russia, ,
При пропорциональном голосовании в парламентских системах, как правило, ни одна политическая партия не занимает 50 % + 1 место в законодательном органе власти. Этот факт ведет к созданию коалиции, которая формирует правительство и определяет политическую жизнь государства до следующих выборов. Распределение министерских постов является важнейшим этапом переговоров между потенциальными партнерами, и важно понимать, под влиянием каких факторов распределяются министерские портфели в коалиционных правительствах.
Принято считать, что правительственные портфели распределяются пропорционально количеству мест партии в законодательном органе к общей численности мандатов, контролируемых коалицией. Однако это не всегда так. Например, в Финляндии в 2007 году и в Швеции в 2018-м «зеленые» должны были получить по 13 % министерств, но в итоге контролировали 7 и 26 % соответственно. Отсюда возникает исследовательский вопрос: какие факторы влияют на эту вариацию?
В вопросе распределения правительственных постов особый интерес представляют «нишевые» партии, концентрирующиеся на узком спектре конкретных вопросов. Зеленые партии образовались из среды активистов, стремившихся обратить внимание на загрязнение Земли, и именно эта общественно значимая проблема оказалась в центре их внимания. На основании этого мы ожидаем, что «зеленые» исторически ориентированы на ограниченный диапазон постов, которые связаны с экологией. Однако теория рационального выбора говорит об обратном: каждая партия стремится максимизировать свои выгоды и получить как можно больше правительственных портфелей.
В настоящее время «зеленые» являются важными политическими игроками в странах Западной Европы. Они пользуются поддержкой избирателей, представлены в парламентах и довольно часто работают в коалиционных правительствах на разных министерских постах. Подобного успеха не достичь без значимой поддержки граждан на выборах. Сторонники экономической теории демократии считают, что для привлечения голосов нужно расширять спектр проблем, что поспособствует увеличению министерских предпочтений. Однако для «нишевых» партий это может быть чревато снижением поддержки ядерного электората, который обеспокоен проблемами окружающей среды. В статье предпринята попытка выявить влияние электорального веса и программных предпочтений зеленых партий на распределение министерских постов.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Практики распределения министерских портфелей в коалиционных правительствах
Распределение министерских портфелей является финальным и одним из самых важных этапов электорального процесса в парламентских системах. Партии получают выгоды от поддержки избирателей и реализуют свой курс в ближайшие несколько лет благодаря постам в правительстве (Browne and Franklin, 1973, p. 454). Именно из-за своей эмпирической и теоретической значимости вопрос о логике распределения министерских портфелей между участниками коалиции стал предметом политических исследований.
Впервые процесс распределения министерских портфелей попытались объяснить приверженцы теории рационального выбора. Они считали, что действия политических акторов нацелены на максимизацию выгод: каждая партия хочет получить как можно больше правительственных постов, чтобы контролировать политический курс государства. Однако если все стремятся к увеличению количества кабинетов, то как их разделить? У. Гамсон в 1961 году предположил, что «распределение министерских портфелей будет пропорционально количеству ресурсов, которые партии вносят в коалицию» (Gamson, 1961, p. 376). Спустя двенадцать лет Э. Браун и М. Франклин провели эмпирическое исследование и выявили, что «доли министерств, получаемых правительственной партией, и ее мест в коалиции равны» (Browne and Franklin, 1973, p. 457). Современные исследования доказывают, что закон пропорциональности Гамсона стабильно предсказывает количественное распределение портфелей в правительствах парламентских систем в Европе в последние семь десятилетий (Cutler et al., 2016; Demyanenko and La Mura, 2023; Chaisty and Power, 2024).
Однако ряд факторов может нарушить этот принцип. Так, партия премьер-министра (форматер), которая выступает главным актором в процессе формирования коалиции, может получить непропорционально большое количество мест (Laver et al., 2011; Montero, 2006). Не менее важен и контекст, при котором создается правительство: чем стабильнее политический фон, тем выше вероятность пропорционального распределения министерских кресел (Falcó-Gimeno and Indridason, 2013, p. 239–242).
По мнению исследователей, идеологическая близость партнеров по коалиции может способствовать получению дополнительных министерских постов младшим партнером (Kluser et al., 2023, p. 527–530). В подобных правительствах минимальны конфликты и, следовательно, вопрос о распределении кабинетов не является первоочередным (Martin and Vanberg, 2004, p. 23–25), значительно более важной оказывается задача проведения общего политического курса. Для укрепления коалиции старший партнер может передать младшему допол- 96
нительные портфели (Krauss and Kluever, 2023, p. 871–876). Такими младшими партнерами в правительственных коалициях зачастую выступают зеленые партии. При этом в силу своей «нишевости», которая проявляется в сфокусированности на экологических проблемах, они могут проигрывать конкурентную борьбу за дополнительные министерские портфели мейнстримным партиям. Чтобы улучшить свои позиции, «зеленые» должны расширять свою повестку. Однако это потенциально способно изменить их имидж как партий – защитниц окружающей среды и, как следствие, снизить электоральную поддержку. Каким образом расширение/сохранение повестки зеленых партий влияет на получение дополнительных министерских мест?
«Нишевые» партии как политический феномен и теоретический концепт
В 1980-х годах политический ландшафт начал претерпевать значительные изменения с появлением партий, акцентирующих свое внимание на одной определенной проблеме. Эти новые игроки, зачастую называемые «нишевыми», фокусировались на узком спектре вопросов (Mudde, 1999), таких как регионализм (Dardanelli and Mazzoleni, 2021), евроскептицизм (Mas-setti and Schakel, 2021) и др. Подобный подход позволил им привлечь внимание избирателей, которым традиционные партии не могли предложить удовлетворительные решения.
«Зеленые» являются наиболее успешными и влиятельными среди всех «нишевых» партий. Начиная с 1980-х годов они постепенно превратились в значимого политического актора в странах Западной и Северной Европы. Например, на первых выборах в бундестаг в 1983 году они получили 5,38 % мест в парламенте, а спустя два десятилетия их лидер Й. Фишер стал министром иностранных дел. На данный момент представители зеленых партий присутствуют в 16 европейских парламентах и в шести правительствах.
Несмотря на узкую направленность, «нишевые» партии сталкиваются с теми же вызовами, что и их традиционные аналоги. Один из главных вызовов – необходимость меняться и адаптироваться для привлечения новых избирателей. Как подчеркивал Э. Даунс, для привлечения избирателей необходимо стремиться к медианному голосующему (Downs, 1957, p. 138) и уделять внимание широкому спектру вопросов. Политическая сцена постоянно эволюционирует, и для сохранения своей актуальности партии должны уметь реагировать на новые вызовы и настроения общества. Это включает в себя дерадикализацию основного вопроса (Blings, 2020, p. 236–238; Adams, 2012, p. 32) или рассмотрение его с другой стороны (Lehmann, 2024, p. 15–19; Meguid, 2023, p. 360–365). Как показывают исследования, такие изменения могут привести к увеличению голосов электората (Spoon and Williams, 2022, p. 1080–1084).
Однако подобные трансформации несут в себе и риски. «Нишевые» партии часто имеют преданных сторонников, которых можно назвать ядерным электоратом. Эти избиратели поддерживают партию именно за ее специфический фокус и четкую позицию по ключевым вопросам (Meguid, 2005, p. 357). Изменения в стратегии или расширение повестки дня могут вызвать недо- вольство у этого базового электората и даже привести к утрате какой-то его части (Rovny and Polk, 2020, p. 264; Zons, 2016, p. 1224–1227).
«Зеленые» решают эту дилемму разными способами. Одни продолжают ставить во главу угла экологические проблемы (например, в Швеции в 2018 году данные вопросы занимали четверть предвыборной программы), в то время как другие отдают приоритет экономическим проблемам (например, в Дании в 2011 году они составляли почти треть предвыборного манифеста). Это поднимает вопрос о том, как программная трансформация влияет на политический успех, особенно с точки зрения получения дополнительных министерских должностей.
Операционализация и эмпирические данные
Под «зелеными» обычно понимаются партии, политическая деятельность и риторика которых строится вокруг решения экологических проблем. Между тем вопросы окружающей среды сегодня значимы для многих политических акторов, но не всех их можно отнести к «зеленым». В данной работе последние определяются как партии, подписавшие Глобальную хартию зеленых1, которую приняли в 2001 году в Канберре более чем 800 делегатов из 72 стран. Документ был подготовлен на основе более ранних совместных заявлений экологов на Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро, а также региональных манифестов зеленых партий. В Глобальную хартию зеленых включены основные идеологические направления: демократия участия, ненасилие, социальная справедливость, устойчивое развитие, уважение разнообразия, экологическая мудрость. Хартия является открытой для присоединения, а потому регулярно пополняется новыми членами.
Единицами наблюдения в данном исследовании выступают коалиционные правительства в странах Западной Европы с парламентской системой, в которых участвовали «зеленые» с 1995 по 2021 год. Нижняя граница периода исследования обусловлена первым участием «зеленых» в национальном правительстве (Финляндия, 1995 г.); верхняя – последним на сегодняшний день (Германия, 2021 г.). Всего в выборке 15 единиц наблюдения в восьми странах (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Люксембург, Финляндия и Швеция). Случай Финляндии 2007 года, как отклоняющийся кейс, не включен в исследование. Это единственный случай, когда «зеленые» получили меньше мест, чем внесли вклад в правительственную коалицию.
Зависимой переменной является наличие/отсутствие дополнительного правительственного места. Для каждой единицы наблюдения рассчитывается разница долей министерских постов и парламентского вклада в правительственную коалицию, а полученный результат умножается на количество министерств в каждой единице наблюдения. Если это значение равно 1 и выше, то случаю присваивается 1, иначе – 0. В итоге в шести случаях «зеленые» получали хотя бы на одно министерское кресло больше, чем прогнозировалось на основании пропорционального подхода.
При определении независимых переменных учитываются классические подходы к объяснению распределения министерских постов в парламентских системах. Для сторонников теории рационального выбора значимым фактором получения дополнительных правительственных мест может быть политический вес.
Гипотеза 1. Если зеленые партии обладают шантажным потенциалом, то шансов получить дополнительное министерское место у зеленых партий больше.
Гипотеза 2. Если проблема экологии имеет низкий приоритет, то шансов получить дополнительное министерское место у зеленых партий больше.
Гипотеза 3. Если экономические проблемы имеют высокий приоритет, то шансов получить дополнительное министерское место у зеленых партий больше.
Гипотеза 4. Если проблемы качества жизни граждан являются средне-или высокоприоритетными, то шансов получить дополнительное министерское место у зеленых партий больше.
Гипотеза 5. Чем меньше идеологическая дистанция между «зелеными» и партией премьер-министра, тем выше шанс у зеленых партий получить дополнительное министерское место.
Исследователи отмечают, что чем больше у партии ресурсов (контролируемых мест в парламенте), тем больше у нее количество портфелей. Однако есть нюанс. Дж. Сартори считал, что партии могут обладать коалиционным и шантажным потенциалом (Sartori, 1976, p. 119–130). Последний тождественен потенциалу лишить коалицию ее ведущей роли. Такой сценарий вероятен в условиях минимально выигрышной коалиции и коалиции меньшинства. Если «зеленые» выйдут из такой коалиции, то правительственный альянс распадется или будет менее стабильным. Исходяизэтого,партияможетпретендоватьнадополнительныеминистерскиеместа, так как форматеру выгодно уступить и остаться партией премьер-министра (Resta and Daadaoui, 2023, p. 385–390). Под правительством меньшинства понимается коалиция, которая контролирует менее 50 % мест в парламенте. Минимально выигрышная коалиция – союз, при выходе из которого «зеленых» доля мест, контролируемых коалицией в законодательном органе, станет менее 50 %. Данные были взяты из баз данных «ParlGov»2 и «Who governs»3.
В силу своей «нишевости» «зеленые» нацелены на решение одной проблемы, а потому спектр предпочтений ограничен. Однако для достижения электорального успеха «зеленые» могут расширять свою повестку, чтобы конкурировать за медианного избирателя. Этого можно добиться снижением внимания к проблемам экологии и повышением интереса к другим сферам жизни человека. По мнению М. Вагнера, «нишевые» партии не освещают экономические проблемы, а акцентируют внимание на узком круге глобальных вопросов (Wagner, 2012, p. 848). Соответственно, можно предположить, что если «зеленые» будут трансформировать свои идеологические предпо- чтения, то они акцентируют внимание на темах, которые не были освещены. Такими могут быть вопросы экономики.
Теоретическим аргументом в пользу стратегии увеличения внимания в партийной повестке к экономическим вопросам может быть и феномен рационального голосования. Исследователи обращают внимание на то, что избиратели делают свой выбор, исходя из собственного социальноэкономического положения: если оно улучшилось – гражданин голосует за инкумбента, если нет – ищет альтернативы.
Еще одним тематическим сегментом, за счет которого возможно расширение повестки зеленых партий, является вопрос о качестве жизни граждан. Первоначально активисты-экологи связывали проблемы окружающей среды с экзистенциальной угрозой человечеству: первые митинги проходили против атомных электростанций, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов. Подобные темы важны для «зеленых», их доля в предвыборных программах не опускалась ниже 20 %. Именно поэтому в партийных приоритетах можно наблюдать тренд сдвига от проблем экологии к вопросам качества жизни граждан. И в этом спектре вопросов «зеленые» потенциально конкурируют со старыми левыми партиями.
Таким образом, стратегия расширения повестки способна положительно влиять на потенциал получения дополнительных министерских мест. «Зеленые» могут демонстрировать широкий спектр вопросов, которые они ставят во главу угла, а значит, и претендовать на больший набор правительственных портфелей. И напротив, если «зеленые» не меняются и главный акцент в своей деятельности делают на проблемах экологии, то снижаются и потенциальные возможности контролировать министерства, отличные от вопросов окружающей среды.
Трансформация идеологических предпочтений операционализирована через долю упоминаний тех или иных проблем в предвыборных программах. Эти официально опубликованные документы предлагают избирателям наиболее достоверную информацию о политических целях. Кроме того, манифесты уменьшают неопределенность для потенциальных партнеров по коалиции относительно будущего поведения представителей партии в правительстве.
Данные для анализа были взяты из Manifesto Project Main Dataset (Party Preferences)4 – проекта, в котором представлен контент-анализ предвыборных манифестов более 1 тыс. партий в более чем 50 странах с 1945 года по сегодняшний день. Кодировка сделана по семи категориям («внешние отношения», «свобода и демократия», «политическая система», «экономика», «благосостояние и качество жизни», «социальный порядок», «социальные группы»), а также подкатегориям, среди которых есть «окружающая среда» (Environmental protection). Значимость каждой категории для конкретной партии измеряется как доля (%) заявлений по этой категории относительно всего текста манифеста. Соответственно, значения варьируются от 0 (нет заявлений по проблеме) до 100 (вся программа посвящена одному вопросу).
Важным фактором в распределении министерских портфелей, как отмечалось ранее, является идеологическая близость внутри коалиции. Когда партнеры имеют сходные политические взгляды, распределение портфелей становится менее значимым по сравнению с разработкой и реализацией общей политики. Ввиду этого младший партнер может получить дополнительные правительственные места.
В Manifesto Project Main Dataset (Party Preferences) на основе всех семи категорий рассчитана переменная, которая показывает положение партий на лево-правой шкале: от самой левой (–100) до самой правой (100). Соответственно, разница этих показателей выявляет, насколько партия премьер-министра и зеленая партия расходятся с точки зрения места в идейнополитическом спектре.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании применялся метод множественного качественного сравнительного анализа (multi-values QCA), так как переменные принимают категориальные значения {0; 1; 2}. Анализ производился с помощью пакета QCA в программе R. Данный метод представляется подходящим для исследования: выборка небольшая – 15 случаев, а кроме того, он позволяет выявить необходимые и достаточные условия и их комбинацию, которая способствует получению дополнительных министерских постов.
В таблице 1 представлена описательная статистика независимых переменных и их калибровка. Для всех переменных, кроме «конфигурации коалиции», которая закодирована дихотомически, с помощью программы R определены пороги с использованием кластерного анализа, и им присвоены логические значения {0; 1; 2}.
Переменная «конфигурация коалиции» разделена на две группы. Под сверхразмерной коалицией (значение 0) подразумевается такая конфигурация правительства, которая при выходе из нее «зеленых» продолжает контролировать большинство парламента. Под минимально выигрышной коалицией (значение 1) подразумевается конфигурация, которая при выходе «зеленых» перестает контролировать большинство в парламенте. Коалиция меньшинства (значение 1) не контролирует большинство в парламенте. Исходя из теоретических ожиданий последние две конфигурации способствуют получению дополнительных министерских портфелей.
Таблица 1 / Table 1
Калибровка переменных / Calibration of variables
|
Переменные |
Мин. |
Макс. |
Пороговые и логические значения |
|
КОАЛ (конфигурация коалиции) |
0 |
1 |
Сверхразмерная коалиция – {0}. Минимально выигрышная коалиция или коалиция меньшинства – {1} |
|
Переменные |
Мин. |
Макс. |
Пороговые и логические значения |
|
ОКР-СР (доля проблем окружающей среды в предвыборной программе) |
4,83 |
25,21 |
< 10,5 – {0} 10,5–20 – {1} 20 < – {2} |
|
ЭКОН (доля экономических проблем в предвыборной программе) |
12,07 |
28,72 |
< 15,5 – {0} 15,5–25 – {1} 25 < – {2} |
|
БиКЖ (доля вопросов о благосостоянии и качестве жизни в предвыборной программе) |
20,02 |
45,34 |
< 25,5 – {0} 25,5–36 – {1} 36 < – {2} |
|
РАЗ (идеологическая близость между «зелеными» и партией премьер-министра) |
0 |
41 |
< 21 – {0} 21< – {1} |
Источник: в таблицах 1–4 приведены собственные расчеты автора на основе данных Manifesto Project Main Dataset (Party Preferences).
Переменная «доля проблем окружающей среды в предвыборной программе» разделена на три группы. Если экологические проблемы занимают менее 10,5 % предвыборной программы, то это проблемы низкой значимости (значение 0); если от 10,5 до 20 % – средней значимости (значение 1); если от 20 % – высокой (значение 2). Исходя из теоретических ожиданий низкая значимость экологических проблем способствует получению дополнительных министерских портфелей.
Переменная «доля экономических проблем в предвыборной программе» также разделена на три группы. Если экономические проблемы занимают до 15,5 % манифеста, то это проблемы низкой значимости (значение 0); если больше 15,5 %, но меньше 25 % – то средней значимости (значение 1); если больше 25% – то высокой (значение 2). Исходя из теоретических ожиданий высокая значимость способствует получению дополнительных министерских портфелей.
Переменная «доля вопросов о благосостоянии и качестве жизни» тоже разделена на три группы. Если проблемы благосостояния и качества жизни занимают до 25,5 % манифестов, то налицо их низкая значимость (значение 0); если от 25,5 до 36 % – средняя (значение 1); если больше 36 % – то это высокий приоритет (значение 2). Исходя из теоретических ожиданий высокая и средняя значимость способствует получению дополнительных министерских портфелей.
Переменная «идеологическая близость» разделена на две группы. Если коэффициент меньше 21 %, то «зеленые» и партия премьер-министра идеологически близки (значение 0); если больше 21 % – неблизки (значение 1). Исходя из теоретических ожиданий высокая близость способствует получению дополнительных министерских портфелей.
В таблице 2 представлены результаты теста на необходимость условий для получения зелеными партиями дополнительных министерских постов, где: консистентность показывает, как часто данное условие присутствовало в истинном результате; значимость необходимости демонстрирует, насколько 102
условие является необходимым для получения истинного исхода; покрытие измеряет долю случаев, которая объясняется условием.
Можно сделать вывод, что в двух из каждых трех случаев, когда «зеленые» получили дополнительные министерские посты, присутствовал шантажный потенциал. К тому же относительная важность данного фактора как независимого условия – 60 %. Это доказывает, что чем выше политический вес «зеленых», тем выше шанс получить дополнительные министерские посты. В двух из каждых трех истинных исходов значимость экологических проблем была низкая, а относительная важность как независимого условия – 70 %. Это подтверждает гипотезу о том, что уход от основного вопроса «нишевой» партии увеличивает шанс на получение дополнительного правительственного места. Высокая значимость экономических проблем была только в 16,7 % случаев, когда «зеленые» получали дополнительные министерские места. Однако средняя значимость была в двух из каждых трех случаев, с относительной важностью в 60 %. Вопросы, связанные с благосостоянием и качеством жизни граждан, и идеологическая близость не влияют на получение дополнительных министерских мест, так как эти факторы в равной степени были и в истинных, и в ложных исходах.
Таблица 2 / Table 2
Анализ необходимости условий / Analysis of the necessity of conditions
|
Условие |
Сверхдоля в распределении портфелей |
||
|
Консистентность |
Значимость необходимости |
Покрытие |
|
|
Правительство меньшинства или минимально выигрышная коалиция |
0,667 |
0,600 |
0,500 |
|
Сверхразмерная коалиция |
0,333 |
0,667 |
0,333 |
|
Доля тем, связанных с проблемами окружающей среды (min) |
0,667 |
0,700 |
0,571 |
|
Доля тем, связанных с проблемами окружающей среды (middle) |
0,167 |
0,769 |
0,250 |
|
Доля тем, связанных с проблемами окружающей среды (max) |
0,167 |
0,846 |
0,333 |
|
Доля тем, связанных с экономикой |
0,167 |
0,769 |
0,250 |
|
Доля тем, связанных с экономикой |
0,667 |
0,600 |
0,500 |
|
Доля тем, связанных с экономикой |
0,167 |
0,923 |
0,500 |
|
Доля тем, связанных с благосостоянием и качеством жизни |
0,333 |
0,667 |
0,333 |
|
Доля тем, связанных с благосостоянием и качеством жизни |
0,333 |
0,750 |
0,400 |
|
Доля тем, связанных с благосостоянием и качеством жизни |
0,333 |
0,917 |
0,667 |
|
Близость |
0,500 |
0,545 |
0,375 |
|
Близость |
0,500 |
0,727 |
0,500 |
В таблице 3 представлены результаты теста на необходимость наиболее значимых комбинаций условий (со значимостью необходимости 0,5 и выше) для получения дополнительных министерских постов. Единственная комбинация, которая присутствовала в 100 % истинных исходов, включала низкую долю проблем окружающей среды или шантажный потенциал. Примечательно, что низкая доля экологических проблем в трех из пяти комбинаций подчеркивает важность идеологических трансформаций зеленых партий для получения дополнительных правительственных мест. Анализ показывает, что зеленым партиям выгодно расширять свою повестку: в трех из пяти комбинаций вопросам благосостояния и качества жизни граждан уделено среднее или высокое внимание.
Таблица 3 / Table 3
Анализ необходимости комбинаций условий / Analysis of the necessity of conditions combinations
|
Условие |
Консистентность |
Значимость необходимости |
Покрытие |
|
ОКР-СР [0] или КОАЛ [1] |
1 |
0,5 |
0,6 |
|
ОКР-СР [0] или ЭКОН [0] |
0,833 |
0,556 |
0,556 |
|
ОКР-СР [0] или БиКЖ [2] |
0,833 |
0,556 |
0,556 |
|
БиКЖ [1] или РАЗ [1] |
0,833 |
0,556 |
0,556 |
|
ОКР-СР [2], или БиКЖ [2], или КОАЛ [0] |
0,833 |
0,556 |
0,556 |
В таблице 4 представлены основные комбинации условий (solutions), выявленные после процедуры минимизации, для случаев, в которых зеленые партии получили хотя бы одно дополнительное министерское кресло. Примечательно, что каждому исходу принадлежит свой уникальный набор факторов. Однако общие закономерности выделить можно. Так, в четырех из шести успешных комбинаций у зеленых партий присутствовал шантажный потенциал: в силу того что они могли поставить под угрозу процесс формирования коалиции, они получили дополнительные места. Особо выделяются коалиции меньшинства. В случае Швеции в 2014 и 2018 годах «зеленые» получили на два министерских поста больше, и это самое высокое значение.
В четырех успешных случаях из шести приоритет проблем окружающей среды был низок. Следовательно, эта тема уходит на второй план, что позволяет расширять спектр других проблем, а значит, повышает шанс получения дополнительных мест в правительстве. Однако в случае Швеции 2014 и 2018 годов проблемы экологии характеризовались средней и высокой значимостью соответственно. Возможно, сыграла свою роль коалиция меньшинства.
Обращает на себя внимание правительство Германии 2002 года. Данный случай обладает той же комбинацией факторов, что и успешный случай Германии 1998 года, однако дополнительных министерских постов «зеленые» в 2002 году не получили. Эта противоречивая ситуация может стать предметом отдельного изучения.
Таблица 4 / Table 4
Основные комбинации условий, выявленные после процедуры минимизации / The main combinations of conditions identified after minimization procedure
|
КОАЛ [1] и ОКР-СР [0] и ЭКОН [1] и БиКЖ [0] и РАЗ [0] |
Германия 1998, Германия 2002 |
|
КОАЛ [0] и ОКР-СР [0] и ЭКОН [1] и БиКЖ [0] и РАЗ [1] |
Бельгия 1999 |
|
КОАЛ [0] и ОКР-СР [0] и ЭКОН [1] и БиКЖ [1] и РАЗ [0] |
Ирландия 2007 |
|
КОАЛ [1] и ОКР-СР [0] и ЭКОН [2] и БиКЖ [2] и РАЗ [1] |
Дания 2011 |
|
КОАЛ [1] и ОКР-СР [1] и ЭКОН [0] и БиКЖ [2] и РАЗ [1] |
Швеция 2014 |
|
КОАЛ [1] и ОКР-СР [2] и ЭКОН [1] и БиКЖ [1] и РАЗ [0] |
Швеция 2018 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подтвердились первые три гипотезы. Проведенное исследование подчеркивает, что отход зеленых партий Западной Европы от своей «нишевости», снижение внимания к основному вопросу и освещение экономических вопросов на уровне 15,5–25 % от предвыборной программы положительно влияют на получение дополнительных министерских постов. В то же время основным предикатом для успешного исхода является шантажный потенциал. Обладая возможностью наложить вето на правительственную коалицию, «зеленые» получают больше портфелей, чем должны были при пропорциональном подходе. Высокий акцент на проблемах благосостояния и качества жизни, а также идеологическая близость с партией премьер-министра (4-я и 5-я гипотезы) не влияют на получение дополнительных министерских постов.
Изучение факторов, которые способствуют получению дополнительных министерских мест, демонстрирует рациональность зеленых партий. Они готовы снижать значимость проблем экологии для большего числа правительственных мест. Подобная адаптация способствует участию в управлении разными сферами жизни и расширению собственного влияния. Можно предположить, что такая стратегия характерна и для других «нишевых» партий, но это требует отдельного исследования.
Список литературы Сила зеленых партий в правительственных коалициях в странах Западной Европы: к вопросу о факторах получения дополнительных министерских портфелей
- Adams, R. B. (2012), “Governance and the financial crisis”, International Review of Finance, vol. 12, no. 1, pp. 7–38, https://doi.org/10.1111/j.1468-2443.2011.01147.x.
- Blings, S. (2020), “Niche parties and social movements: Mechanisms of programmatic alignment and party success”, Government and Opposition, vol. 55, no. 2, pp. 220–240, https://doi.org/10.1017/gov.2018.18.
- Browne, E. C. and Franklin, M. N. (1973), “Aspects of coalition payoffs in European parliamentary democracies”, American Political Science Review, vol. 67, no. 2, pp. 453–469, https://doi.org/10.2307/1958776.
- Chaisty, P. and Power, T. J. (2024), “Gamson going global? Cabinet proportionality in comparative perspective”, European Political Science Review, vol. 16, no. 4, pp. 630–646, https://doi.org/10.1017/S1755773924000067.
- Cutler J., De Marchi, S., Gallop, M. et al. (2016), “Cabinet formation and portfolio distribution in European multiparty systems”, British Journal of Political Science, vol. 46, no. 1, pp. 31–43, https://doi.org/10.1017/s0007123414000180
- Dardanelli, P. and Mazzoleni, O. (2021), Switzerland–EU relations, Routledge, London, UK, https://doi.org/10.4324/9781003038719.
- Demyanenko, N. and La Mura, P. (2023), “Gamson–Shapley laws: A formal approach to parliamentary coalition formation”, Humanities and Social Sciences Communications, vol. 10, art. no. 710, https://doi.org/10.1057/s41599-023-02207-7.
- Downs, A. (1957), An economic theory of democracy, Harper & Row, New York, NY, US.
- Falcó-Gimeno, A. and Indridason, I. H. (2013), “Uncertainty, complexity, and Gamson’s Law: Comparing coalition formation in Western Europe”, West European Politics, vol. 36, no. 1, pp. 221–247, https://doi.org/10.1080/01402382.2013.742758.
- Gamson, W. A. (1961), “A theory of coalition formation”, American Sociological Review, vol. 26, no. 3, pp. 373–382, https://doi.org/10.2307/2090664.
- Kluser, K. J., Schmuck, D. and Sieberer, U. (2023), “Colleagues or adversaries: Ministerial coordination across party lines”, Governance, vol. 37, no. 2, pp. 517–536, https://doi.org/10.1111/gove.12784.
- Krauss, S. and Kluever, H. (2023), “Cabinet formation and coalition governance: The effect of portfolio allocation on coalition agreements”, Government and Opposition, vol. 58, no. 4, pp. 862–881, https://doi.org/10.1017/gov.2021.68.
- Laver, M., de Marchi, S. and Mutlu, H. (2011), “Negotiation in legislatures over government formation”, Public Choice, vol. 147, pp. 285–304, https://doi.org/10.1007/s11127-010-9627-4.
- Lehmann, F. (2024), “Why accommodate? How niche pressure and intra-party divisions shape mainstream party strategies”, Journal of European Public Policy, pp. 1–26, https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2408320.
- Martin, L. W. and Vanberg, G. (2004), “Policing the bargain: Coalition government and parliamentary scrutiny”, American Journal of Political Science, vol. 48, no. 1, pp. 13–27, https://doi.org/10.2307/1519894.
- Massetti, E. and Schakel, A. H. (2021), “From staunch supporters to critical observers: Explaining the turn towards Euroscepticism among regionalist parties”, European Union Politics, vol. 22, no. 3, pp. 424–445, https://doi.org/10.1177/14651165211001508.
- Meguid, B. (2005), “Competition between unequals: The role of mainstream party strategy in niche party success”, American Political Science Review, vol. 99, no. 3, pp. 347–359, https://doi.org/10.1017/S0003055405051701.
- Meguid, B. (2023), “Adaptation or inflexibility? Niche party responsiveness to policy competition, with evidence from regionalist parties”, European Journal of Political Research, vol. 62, no. 2, pp. 355–376, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12540.
- Montero, B. M. (2006), “Noncooperative foundations of the nucleolus in majority games”, Games and Economic Behavior, vol. 54, no. 2, pp. 380–397, https://doi.org/10.1016/j.geb.2005.01.001.
- Mudde, C. (1999), “The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration issue”, West European Politics, vol. 22, no. 3, pp. 182–197, https://doi.org/10.1080/01402389908425321.
- Resta, V. and Daadaoui, M. (2023), “Multiparty coalition governments, portfolio allocation and ministerial turnover in Morocco and Algeria”, Middle East Law and Governance, vol. 15, no. 3, pp. 369–397, https://doi.org/10.1163/18763375-15030008.
- Rovny, J. and Polk, J. (2020), “Still blurry? Economic salience, position and voting for radical right parties in Western Europe”, European Journal of Political Research, vol. 59, no. 2, pp. 248–268, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12356.
- Sartori, G. (1976), Parties and party system: A framework for analysis, Cambridge University Press, New York, NY, US.
- Spoon, J. and Williams, C. (2022), “Environmental chauvinism? Explaining issue expansion among non-mainstream parties”, Party Politics, vol. 29, no. 6, pp. 1077–1108, https://doi.org/10.1177/13540688221117262.
- Wagner, M. (2012), “Defining and measuring niche parties”, Party Politics, vol. 18, no. 6, pp. 845–864, https://doi.org/10.1177/1354068810393267.
- Zons, G. (2016), “How programmatic profiles of niche parties affect their electoral performance”, West European Politics, vol. 39, no. 6, pp. 1205–1229, https://doi.org/10.1080/01402382.2016.1156298.