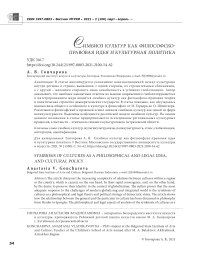Симбиоз культур как философско-правовая идея и культурная политика
Автор: Гончарова Анастасия Владиславовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (100), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется усложнение взаимоотношений между культурами внутри региона и страны, вызванное, с одной стороны, их стремительным сближением, а с другой - желанием сохранить свою самобытность в условиях глобализации. Автор доказывает, что наиболее адекватным ответом на вызовы современного глобализирующегося и интегрированного мира является симбиоз культур как философско-правовая теория и политическая стратегия демократических государств. В статье показано, как обсуждалась взаимосвязь общего и особенного в культуре в философии от И. Гердера до О. Шпенглера. Различаются философский и правовой аспект анализа симбиоза культур как одной из форм поликультурности. Выделены особенности российской модели симбиоза культур. На основе данного положения в статье предпринимается исследование региональных культурных процессов, в частности - этнически сложного культурогенеза Астраханской области.
Симбиоз культур, мультикультурализм, поликультурность, этнос, глобализация, интеграция, идентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/144162057
IDR: 144162057 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-2100-54-62
Текст научной статьи Симбиоз культур как философско-правовая идея и культурная политика
Симбиоз культур как философско-правовая идея и направление в политике демократических государств стал необходимым ответом на вызовы современного глобализирующегося мира. Отсюда особая актуальность исследования этой проблемы, изучения её ценностной стороны, что предполагает уточнение методологического аппарата – адекватных подходов и методов, среди которых важную роль играет системный и исторический подходы, компаративистика в её историко-культурном измерении.
В конце ХХ – начале XXI столетий мы наблюдаем усложнение взаимоотношений между культурами, вызванное, с одной стороны, их стремительным сближением, а с другой – желанием сохранить самобытность и уникальность каждой из них. Развитие культуры никогда не шло лишь по восходящей. Каждый этап порождает новые проблемы, а культура «совершенной от этого не становится, ведь на новом месте развиваются новые способности, а бывшие безвозвратно исчезают» [9, с. 426]. Но как именно выглядят эти взаимодействия при серьёзных различиях в основании культур? Как это происходит, в частности, с народами Европы и Азии?
***
Немецкий просветитель И. Гердер считал, что современная культура аккумули- рует самое ценное из других культур. Теория культуры Гердера стала революционной, совместив историю и природу, которые находились в состоянии конфронтации в теориях Дж. Вико и Ж.-Ж. Руссо. Гердер во многом порывает с европоцентризмом, склоняясь к тому, что существует множество культур, каждая из которых ценна, а разделение на культуры «примитивных» и «европейских» народов является односторонним. Как он отмечает в работе «Идеи к философии истории человечества», то, что мы называем культурой – это «культуры различных этносов, которые вступают друг с другом в сложное взаимодействие, создавая в конечном счёте понятие, которое можно назвать культурой человеческого общества» [9, с. 11]. Европейская культура, которую часто возвышают над другими, на деле вобрала в себя достижения других культур, превращая и совершенствуя их до необходимого уровня. Прибегая к анализу истории культуры, он показывает, что «европейская» культура имела производные из Азии, где впервые возникла письменность, математическое исчисление, начали своё развитие художественное искусство и предсказание событий по звёздам. Кроме того, именно на этом континенте достигло высокого уровня искусство управления государством.
И. Кант, подобно Гердеру, обращал внимание на место человека в мире культуры, проанализировал проблему прав человека в трактате «К вечному миру». Говоря о гражданской, общечеловеческой терпимости, он отмечает, что «есть всемирное гражданское право каждого чужака на то, чтобы тот, на чью землю он прибыл, не обращался бы с ним, как с врагом. Право посещения принадлежит всем людям в силу права общего владения земной поверхностью, на которой … люди не могут рассеяться до бесконечности и поэтому должны терпеть соседство других» [11, с. 216]. Таким образом, уже Кант рассматривал взаимодействие культуры через призму идеи всеобщего равенства в её философском и правовом аспектах.
Анализируя культуру в двух направлениях – как культуру умения и культуру воспитания, Кант доказывал, что первое необходимо для того, чтобы человек достигал которых он не способен ничего почувствовать или зафиксировать в личном опыте. В то же время «появление культуры связано с ментальным приспособлением человека к окружающей среде, и в дальнейшем может иметь два направления – экстравертный, направленный на символическое восприятие мира, и интровертный, который показывает внутренние процессы развития человеческого духа» [8, с. 61].
Но если мир ценностей у неокантианцев универсален, то культурный мир каждой личности уникален. Таким образом, в неокантианстве решается вопрос о взаимосвязи общего и индивидуального в мире культуры. Тем самым в неокантианстве закладываются основы современной философии культуры, связанные с ценностными ориентирами личности, народа, человечества в целом.
своих целей, однако указывает, что это воз-
При этом методологические идеи нео- можно только с помощью второго, что освобождает от «деспотизма желаний». Тогда индивид способен избавиться от внешних ограничений и выбрать адекватные способы достижения желаемого. Таким образом, культура, по Канту, охватывает всё, что противостоит природе, притом что человек в этом мире должен быть целью, но на деле оказывается средством.
Важный шаг в исследовании взаимодействия культур сделали представители неокантианства Баденской школы, у которых культура связана с миром ценностей, имеющих универсальный характер. При этом представитель Марбургской школы неокантианства Э. Кассирер развивал философию символических форм. Так, Кассирер утверждал, что человек живёт в символическом универсуме, окружённый языковыми формами, произведениями искусства, религиями и мифами, без посредства кантианцев, которые связывали мир культуры с осуществлением человеческой свободы, радикально отличаются от того, что утверждали представители науки, в частности этнографии, а затем культурной антропологии. Основоположник направле- ния эволюционизма в науках о культуре Э. Б. Тайлор писал, что «в культуре существует немало не только специфических черт для отдельных народов, но и общечеловеческого и универсального для разных стадий развития» [15, с. 11]. И если неокантианцы, рассматривая соотношение универсального и уникального, делали акцент на втором, то Тайлор – именно на первом. В учении Тайлора мы, по сути, наблюдаем возвращение к европоцентризму.
Противоположную позицию занимал немецкий философ и культуролог О. Шпенглер, который в работе «Закат Европы» выдвинул идею существования различных культур и сообществ людей, наделённых уникальной ментальностью. «Вместо монотонной картины всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на подавляющее количество фактов, ей противоречащих, я вижу феномен множества мощных культур, произрастающих из недр страны, которая их породила» [17, с. 55]. В его лице принцип культурного релятивизма спровоцировал пересмотр идеи унифицированной культуры в пользу осознания того, что каждая культура независимо от того, какого уровня развития она достигла, является сложной, ценной и самобытной системой.
***
Социуму свойственна разная реакция на многообразие культур, особенно в условиях усложнения социальных взаимодействий. В ХХ веке, опираясь на идею многообразия культурных единиц, исследователи всё же пытались найти между ними общие точки и центральную линию их развития. В этом контексте рождались разные идеи взаимосвязи культур. Ряд учёных отстаивал идею культурной диффузии, когда взаимодействие происходит путём подражания и заимствования культурных образцов через искусство, урбанизацию, профессиональную специализацию.
Культурная диффузия должна приводить к синтезу разных культур в новом культурном целом, что характерным образом выражено в ведённой американцами идее «плавильного котла». Но неудачи в реализации этой идеи на практике привели к рождению европейских проектов мультикультурализма и поликультурности.
Поскольку первая часть этих терминов отличается только языком, из которого они были заимствованы – латинский и грече- ский, можно было бы предположить, что и содержание этих понятий полностью совпадает. Но разница всё-таки существует, и она является существенной.
В данном случае мы согласны с исследователем данной проблемы С. И. Левико-вой, которая пишет о том, что мультикультурализм и поликультурность различаются степенью обособления народов в рамках одной страны, одного культурного единства. Если в случае мультикультурализма акцент делается на автономности каждого из элементов культурного целого, то поликультурность акцентирует момент взаимовлияния разных культур на основе культуры базового этноса. Так возникает каждый раз новое оригинальное образование, в котором единство предполагает многообразие, и наоборот. Иначе говоря, поликультурность предполагает момент «врастания» разных культур друг в друга на базе общей идентичности [13].
Конкретизацией идеи поликультурности в современных условиях, на наш взгляд, является идея симбиоза культур как особого сочетания разных культур в пределах вполне органичного культурного образования. В основе такого сочетания находится та «совместная жизнь», а таков буквальный смысл слова «симбиоз», которая помогает успешному культурному развитию как целого, так и его элементов. В этом плане симбиоз культур оказывается одним из возможных вариантов социокультурного поведения, который является естественной реакцией на феномен культурного многообразия и определяет средства регулирования взаимодействия различных культур в рамках одного региона и одной страны. При этом сохраняется необходимость изучения и уточнения идеи симбиоза культур и её перспективности.
Обратим внимание на выражение идеи симбиоза культур в области этики. В 1970-е годы центральное место занимала дискуссия относительно представлений о социальной или распределительной справедливости. На смену ей уже в 1980-е годы пришла проблема соотношения права и блага, а уже в начале XXI века начались серьёзные исследования и споры относительно связанности симбиоза как правовой теории и концепции межкультурной справедливости [2, с. 119]. Заслуживает внимание позиция Ю. Хабермаса, высказанная в работе «Модерн – незаконченный проект» о социальном консенсусе. Учёный утверждает, что «новой концепцией современного мульти-культурного общества должен стать социальный консенсус, который также стоит сделать частью политики правового симбиоза» [5, с. 170]. Как мы видим, понятия «мультикультурализм» и «поликультурность» у Хабермаса ещё не разводятся.
Симбиоз культур в разные периоды был предметом исследования культурологии, социологии и политологии. Вопросу симбиоза культур, подходам к его пониманию, признакам и принципам уделяли внимание такие учёные, как С. Бенхабиб, Ч. Кута-каса, У. Кимлика, Н. Глейзер, Дж. Шортино, П. Кивисто, Й. Терборн, Т. Модуд, Р. Баубок и другие. Интересными также представляются исследования А. Маргалита и М. Халь-бертала, которые выделили пять типов субъектов правового симбиоза. Впрочем, сведение к «единому знаменателю» состоится только в 1970-х годах, а до этого «человечество приходит к осознанию общей человеческой истории и судьбы» [7], переосмысливая подходы к пониманию новой социальной реальности.
К середине ХХ века исследователи, осознавая идею симбиоза, надеялись найти общие, объединяющие точки и способы взаимодействия культур, сдвигая к середине 1970-х годов этот процесс в политико-правовое поле. Именно на рубеже ХХ– ХХI веков начинается период активного исследования правовой стороны идеи симбиоза культур. Процесс глобальной интеграции культур и цивилизаций и стремление наций сохранить свои уникальные черты способствовал исследованию понятия симбиоза, этапов его становления и предлагаемых им вариантов реакции на усложнение социальных, правовых и культурных взаимодействий. Впрочем, исследуя развитие этого понятия, невозможно не принять во внимание генезис политико-правовых институтов, которые реализуют способ взаимодействия культур в одном регионе.
Не менее важным является исследование элементов правового симбиоза, включая проблемы справедливости и гуманизма в движении к диалогу культур и созданию консенсусных решений [13, с. 37]. Симбиоз культур – основа и предпосылка того, что «индивидуальные интересы личности признаются и защищаются при соответствии с типичными интересами многих членов общества» [6, с. 15–17]. Правовой аспект в данном случае органично связан с нравственным. Е. П. Ананьева в связи с этим предлагает обратить внимание на процесс формирования нравственной личности, которая была бы способной гуманно и толерантно выражать своё отношение к Другому в процессе мультикультуралистичных тенденций [4, с. 6]. Человекоцентризм в условиях симбиоза культур выступает важной и влиятельной идеей при формировании сложноинтегрированного мировоззрения народа.
В контексте философско-правовой теории симбиоза необходимо осознание пра- вовой самобытности нации, ведь многообразие культур в условиях глобализации означает сложные модели развития каждой демократической страны. Отсюда актуальность понятия «толерантность», которое принято вести от «Письма о веротерпимости» Дж. Локка, хотя следует напомнить, что первые попытки его определения существовали ещё в Древней Греции, когда Сократ определял толерантность как обуздание страсти через воспитание и знание, а Аристотель трактовал это понятие как стремление к «золотой середине». Общим человеческим долгом называли толерантность Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант. Г. Спенсер считал, что толерантность – это идея всеобщего равенства, а для Ж.-П. Сартра толерантность выступала внутренним регулятором «моего отношения к Другому» [10, с. 94].
Итак, становление понятия симбиоза культур и его дальнейшее оформление в философскую и правовую теорию прошло долгий путь. Экономические и иммигрантские кризисы в конце 1970-х годов сформировали необходимость единой политики государства, направленной на признание права на общую идентификацию внутри различных культур и нивелирование культурной и правовой дискриминации. Конец 1990-х годов и кризис идеологии коммунизма вызвали рост интереса к симбиозу культур как государственной политике и – что важно – философской теории, что стимулировало поиск вариантов межэтнического взаимодействия при условии сохранения национальной самобытности.
***
Модель российского симбиоза культур является достаточно интересной и своеобразной. В отличие от других поликуль-турных регионов, образовавшихся в резуль- тате значительного переселения на их территорию иммигрантов, Российская Федерация стала таковой в силу своего геополитического положения.
В начале ХХ века Россия занимала 1/6 часть суши. Совпадение интересов народов, населявших значительные территории Европы и Азии, способствовало их преимущественно добровольной консолидации. Очень часто та или иная народность принимала решение присоединиться к России с целью самосохранения. Вместе с тем происходило геополитическое, цивилизационное и социально-экономическое срастание других народов с собственно русскими областями [3, с. 31]. Наиболее сложно интегрировались территории с мусульманским населением, что порождало межконфессиональные противоречия. Тем не менее в итоге Россия всё же стала государством-сообществом разных народов.
Российская модель симбиоза культур была одной из дискуссионных. Среди российских исследователей интерес к феномену симбиоза культур был стимулирован политическими событиями 1990-х годов. Эти события привели к всплеску этнического самосознания, что в тот период поставило под угрозу общероссийскую идентичность. Большинство регионов Российской Федерации являются многонациональными. Но даже если разнообразие повышает культурное богатство общества, оно, к сожалению, может привести к политическому конфликту. Эта проблема стала очевидной на территории Чечни в 1990-е годы.
Поиск конкретных решений симбиоза культур в многонациональных регионах актуален и сегодня, что мы хотим показать на примере Астраханской области. В первую очередь отметим, что много проблем в культурной жизни Астраханской об- ласти создают особенности культуры восточных народов. Уточним, что восточноазиатские народы (восточноазиатцы) – это спецификатор расовой классификации, используемый для людей, происходящих из Восточной Азии. Общая численность населения всех стран этого региона составляет 1,677 млрд человек, или 21% населения мира в 2020 году [18], однако эти данные не обязательно представляют собой точную цифру численности восточноазиатских народов во всём мире.
В этом контексте культура восточных народностей Астраханской области Российской Федерации – это «общий набор традиций, систем воспитания и поведения, определяется историей, религией, этнической принадлежностью, языком и национальностью, а также другими факторами» [1, с. 16]. Культурные традиции Астраханской области формируют казахи, чеченцы, азербайджанцы, калмыки, армяне, грузины, дагестанцы, а также уроженцы Туркменистана, то есть тюркские, кавказские и монгольские народности. Кроме этих этносов в минимальном количестве в области проживают чуваши и латыши, татары и ногайцы с множеством различных религий, этнических и языковых групп. Все жители Астраханской области тесно связаны друг с другом в аспекте традиций духовной и материальной культуры. Всем им удалось образовать особый культурный кластер.
Астраханская область всегда была перекрёстком для торговцев, путешественников и строителей империй. Множество языков, на которых говорят в Астраханской области, также отражает её этнокультурное разнообразие. В основном эти языки происходят из трёх основных языковых «семей»:
-
• семитский (включая арабский, иврит и арамейский);
-
• индоевропейский (курдский, персидский, армянский);
-
• тюркский (турецкий, азербайджанский).
Эти языковые семьи отражают последовательную миграцию разных народов, в том числе и в регионы Российской Федерации. Причём научный анализ этих языков показывает, какое влияние они оказали друг на друга. Например, персидский язык написан арабским шрифтом, а турецкий включает словарные слова из персидского и арабского языков. На самом арабском языке говорят в местной диалектике, которую не всегда понимают в других регионах. Некоторые этнические и религиозные общины сохранили «родные» языки для религиозного использования.
Таким образом, Астраханская область, как и многие другие территории Российской Федерации, продолжает развиваться, сохраняя свои этнокультурные традиции в глобализирующемся мире. И хотя азиатские культуры на территории Российской Федерации сохраняют стремление к этническому индивидуализму, присутствие множества других культур, общая экономика, исторические связи и грамотная культурная политика создают почву для органичного симбиоза культур в рамках региональной и общероссийской культурной идентичности.
В этом свете правовое оформление особого российского симбиоза культур на уровне региона и государства в целом остаётся важной задачей. Именно сплочение наших народов на уровне общероссийской идентичности при этническом, языковом и прочем разнообразии лежит в основе выработанного в нашей стране симбиоза культур как выражения современной поликультурности.
Список литературы Симбиоз культур как философско-правовая идея и культурная политика
- Алексеев Ф. Г., Сатанова Д. С. Языки Астраханской области // Малые языки. 2017. № 4. С. 10-23.
- Ананьева Е. П. Мультикультурализм и толерантность как социально-философские концепции социокультурного пространства : специальность 09.00.03 - Социальная философия и философия истории : диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук / Ананьева Елена Павловна. Одесса, 2016. 467 с.
- Астафьева О. Н. Концепция мультикультурализма в контексте современных миграционных процессов // Теория и практика культуры : Альманах / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва : Изд-во РАГС, 2004-. Вып. 6 / под ред. B. К. Егорова. 2008. С. 23-48.
- Белас Л., Беласова Л. Мультикультурализм в глобализирующемся мире // Вестник Вятского государственного университета. 2014. № 7. С. 6-10.
- Бенхабиб С. Притязания культуры : равенство и разнообразие в глобальную эру / перевод с английского под ред. В. Л. Иноземцева ; Центр исследований постиндустриального общества. Москва : Логос, 2003. 289 с.
- Вевьерка М. Формирование различий // СОЦиС : социологические исследования : научный и общественно-политический журнал. 2005. № 8. С. 13-24.
- Волкова Т. П. Теория мультикультурализма как синтез философских концепций либерализма и коммунитаризма : специальность 09.00.03 - История философии : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук / Волкова Татьяна Павловна. Мурманск, 2006. 21 с.
- Гафарова Ю. Ю. Мультикультурализм, транскультурность и «новое» понятие культуры // Фундаментальные проблемы культурологии. Том VII. Культурное многообразие : теории и стратегии. Москва : Новый хронограф ; Санкт-Петербург : Эйдос, 2009. C. 29-37.
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / перевод и примеч. А. В. Михайлова ; [АН СССР]. Москва : Наука, 1977. 703 с.
- Золотухин В. М. Толерантность. Кемерово : Кузбасский государственный технический университет, 2001. 145 с.
- Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире : [сборник] / сост. И. С. Андреева, А. В. Гулыга. Санкт-Петербург : Алетейя, 2003. 398 с.
- Круглова Л. К. Человек как проблема философии, философии культуры и культурологии // Человек. Культура. Образование : научно-образовательный и методический журнал. 2015. № 2. C. 54-62.
- Левикова С. И. Мультикультурализм как социальная проблема, или Чем отличается «мультикультурализм» от «поликультурности» // Известия ВГПУ. Серия : Социально-экономические науки и искусство. 2014. Том 88. № 3. С. 37-41.
- Линейцева К. С. К вопросу о понятии «электорально-правовая культура» // Право и государство : теория и практика. 2013. № 5 (101). С. 35-41.
- Тайлор Э. Первобытная культура : [перевод с английского] / [предисл. и примеч. А. И. Першица]. Москва : Политиздат, 1989. 572 с.
- Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский и др. Москва : Инфра-М, 2009. 576 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 1. Образ и действительность / перевод Н. Ф. Гарелин. Москва : Попурри, 2019. 656 с.
- Introducing East Asian Peoples. International Mission Board. 2016, September 10.