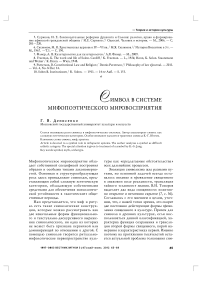Символ в системе мифопоэтического мировосприятия
Автор: Денисенко Георгий Владиславович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (47), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли символа в мифопоэтических системах. Автор анализирует символ как сложную эстетическую категорию. Особое внимание уделяется трактовке символа К.-Г. Юнгом.
Символ, миф, архетип
Короткий адрес: https://sciup.org/14489240
IDR: 14489240
Текст научной статьи Символ в системе мифопоэтического мировосприятия
Мифопоэтическое мировосприятие обладает собственной спецификой построения образов и особыми типами закономерностей. Основная и структурообразующая роль здесь принадлежит символам, представляющим собой сложную эстетическую категорию, обладающую собственными средствами для обеспечения психологической устойчивости в «хаотические» общественные периоды.
Нам представляется, что миф и ритуал есть такие символические конструкции, которые можно рассматривать как две изначальные формы функционального и текстуально-дискурсивного выражения символического, ни одна из которых не может быть признана первичной или доминирующей по отношению к другой. С помощью символов творится ритуальномифологическое первопространство куль- туры как «предлагаемые обстоятельства» всех дальнейших процессов.
Эволюция символизма шла разными путями, но основной задачей всегда оставалось явление и проявление священного в знаковом поле реальности, трансляция тайного «главного» знания. В.Н. Топоров выделяет два вида священного: позитивно открытое и негативно скрытое (7, с. 36). Соглашаясь с его мнением в целом, уточним, что, с нашей точки зрения, это скорее две постоянно действующие формы проявления священного в культуре. Причем для символа в древних культурах, если воспользоваться данной классификацией, характерна функция сохранения и трансляции второй формы священного, порой намеренно в характеристиках первой. Именно поэтому на протяжении тысячелетий остается актуальной проблема толкования сим- волов. Так, М. Элиаде ставит проблему следующим образом: «Посредством многочисленных сопоставлений, с помощью внятных доводов (тексты, обряды, памятники материальной культуры) и полускрытых аллюзий можно наглядно показать, что “значит” тот или иной символ. Но можно также задаться вопросом другого порядка: отдают ли себе отчет во всех этих теоретических построениях те люди, которые пользуются данными символами? Когда, например, изучая символику Космического древа, мы говорим, что оно высится в Центре Мира, то следует ли думать, будто все члены обществ, где известны такие Дерева, в равной степени сознают всю целостную символику Центра? Тем не менее значимость символа как формы познания не зависит от компетентности того или иного индивида. И тексты, и фигуративные памятники убедительно доказывают нам, что, по меньшей мере, некоторые из членов того или иного архаического общества прозревали символику … во всей ее целокупности; остальные довольствовались “причастностью” к ней» (9, с. 138).
К сожалению, мы не имеем возможности рассмотреть всю историю символизма в культуре, поэтому остановимся на определенных аспектах ее современного этапа.
Представление о символе как основе мифа уходит корнями своими в романтизм и немецкую мифологическую школу XIX века, оставаясь с тех пор основой многих авторитетных мифологических концепций. Согласно идеологии этого подхода, представление о символе достаточно поэтизировано и мистично, ибо «символ содержал в себе тайну могущей осуществиться мечты о соединении миров необходимости и свободы — природы и нравственной деятельности, осуществления культурного назначения человека» (8, с. 73). Ведущая роль символа постепенно акцентируется, захватывая сначала искусство, затем философию и науку, а после становясь сжатым выражением смысла культуры в целом. Именно такое значение придаёт ему, например, И.-В. Гёте, считавший символизирующую деятельность высшей и наиболее адекватно воспроизводящей мир, практически единственным видом деятельности, позволяющим, по его мнению, непосредственно «выйти к объекту». Однако же суть такого «выхода» и, вообще, вопрос о том, что представляет собой сам символ как таковой — все окутано тайной, и Гёте ограничивается по этому поводу лишь замечанием о том, что «настоящая символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение неисследимого» (2, с. 353).
В России задолго до теории архетипов К.Г. Юнга в работах Ф.И. Буслаева и других русских филологов XIX века появляются темы «первообразов» в мифологии, врожденных идей и априорного знания, коллективного бессознательного. Правда, понятие «первообраза» в этих работах не менее размыто, чем понятие самого мифа, а часто употребляется и как просто тождественное ему. Тем не менее, уже в 1851 году Д.О. Шеппинг пишет во введении к своей статье «Опыт о значении Рода и Рожаницы»: «В человеческом уме есть такие аллегорические формулы для изображения общих законов жизни и разума, которые предшествовали всем мифическим преданиям и которые, если бы эти предания и не дошли до нас, тем не менее существовали бы в наших понятиях» (6, с. 116). Сходную мысль развивает и Буслаев, говоря о связи мифа и эпоса и причине «единообразия эпических мотивов», которая, по его мнению, кроется в существовании некоторого «первообраза», к которому постоянно обращаются певцы и сказите- ли и который «кочует», таким образом, из одного предания в другое (1).
Серьезным исследованием этого «первообраза» впервые занялся лишь спустя почти столетие К.Г. Юнг, чья теория архетипов имела для мифологии немалое значение. Вернее сказать, большое значение эта теория имела не для мифологии, ибо миф самодостаточен, и для него самого ничего от создания мифологических теорий не меняется, а для понимания универсальности и, если можно так выразиться, своеобразия роли мифа. Юнг, будучи психологом, занимался отнюдь не древней мифологией, а психикой своих современников и неожиданно обнаружил в ней отголоски древних мифов. «В сновидениях, как и в продуктах психоза, присутствуют бесчисленные взаимосвязи, параллели которым можно найти только среди мифологических комбинаций идей ... типические мифологемы наблюдались у тех индивидов, в отношении которых не может быть и речи ни о каких знаниях такого рода и где опосредованное влияние (религиозные идеи, которые могли бы быть им известны, или обороты разговорного языка) было невозможно. Такие заключения заставили нас предположить, что мы скорее всего имеем дело с “автохтонными” возвращениями, независимыми от какой бы то ни было традиции, и что, следовательно, в бессознательной психике должны присутствовать мифообразующие структурные элементы.
Эти продукты никогда (или, по крайней мере, крайне редко) не являются оформленными мифами, скорее это мифологические компоненты, которые ввиду их типической природы мы можем назвать “мотивами”, “первообразами”, “типами” или — как назвал их я — архетипами» (11, с. 87—88).
Говоря о том, что же представляет собой архетип, К.Г. Юнг замечает: «Его основной смысл не был и никогда не будет сознательным. Он был и остается предметом интерпретации, причем всякая интерпретация, которая каким-либо образом приближалась к скрытому смыслу (или, с точки зрения научного интеллекта, к абсурду, что то же са- мое), всегда, с самого начала, претендовала не только на абсолютную истинность и действительность, но также требовала безропотного повиновения, уважения и религиозной преданности. Архетипы всегда были и по-прежнему остаются живыми психическими силами, которые требуют, чтобы их восприняли всерьез и которые странным образом утверждают свою силу. Они всегда несли защиту и спасение, а их разрушение приводит к “perils of the soul” (потере души), известной нам из психологии дикарей» (11, с. 87—88). То есть термином «архетип» Юнг называет «формы и образы, коллективные по своей природе, встречающиеся практически по всей земле как составные элементы мифов и являющиеся в то же самое время автохтонными индивидуальными продуктами бессознательного происхождения» (10).
Юнг отметил два немаловажных свойства, присущих архетипам: то, что они составляют часть особой (мифологической) картины мира и в другой картине мира (скажем так, рациоцентрической) существовать не могут и вытесняются ею в подсознательное, и то, что они определенным образом довлеют над речью и поведением человека, заставляя «принимать их всерьез», то есть подчиняться их особой логике — той самой, по которой и строится мифопоэтическая картина мира, частью которой они являются.
Причинность мифопоэтической картины мира основана на законе небезразличия, или со участия, при этом особенно важным становится внимание к частному, конкретному, отличающемуся. Взаимозависимость, диалогизм субъекта и ситуации здесь столь же несомненны, как и нераздельность и взаимозависимость эмоций, образа и действия. Эта причинность выступает каждый раз как причинность некоторого события, то есть взаимодействия, которое, в свою очередь, оказывается связано с сущностью и отношениями друг к другу участников этого события или своего рода диалога. Каждое такое с о бытие определяет изменение каждого из его участников и его дальнейшую участь.
Поэтому мифопоэтика предполагает и иное структурирование картины мира, и иной тип языка, характерный для только такого понимания причинности и необходимый для соответственной ему организации мифопоэтической картины мира. В мифологии, религии и искусстве, по мнению Юнга, происходит превращение и шлифовка архетипических образов в символы. Символы приближают человека к священному и вместе с тем предохраняют его от непосредственного соприкосновения с колоссальным потенциалом психической энергии сакральных пластов. «Символы дают пережитому форму и способ вхождения в мир человечески ограниченного понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей значимости» (10).
К.Г. Юнг определяет символ следующим образом: «То, что мы называем символом, — это термин, имя или изображение, которые могут быть известны в повседневной жизни, но обладают специфическим добавочным значением к своему обычному смыслу. Это подразумевает нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас» (10).
Исходя из этого определения, Юнг делит символы на «естественные» и «культурные» , утверждая, что первые происходят из бессознательных глубин психического и представляют громадное множество вариаций основных архетипических образов. Довольно часто они могут быть прослежены до своих истоков, архаических корней. Как культурные символы Юнг определяет те, которыми на протяжении тысячелетий пользовались для выражения «вечных истин» и которые по большинству используются до сих пор. Такие символы прошли «через множество преобразований, через процесс более или менее сознательного развития и стали коллективными образами, принятыми цивилизованными обществами». Несмотря на это, они сохраняют в себе еще много от своей первоначальной сакральности или «колдовского» начала» (10).
Популярность символа ещё больше возросла в XX веке при обращении к различным областям и проблемам эстетики и философии культуры, когда стали исполь- зоваться различные методы структурного языкознания (Ф. де Соссюр), социологии языка (Э. Сепир, Б. Уорф), учение о внутренней форме (А.А. Потебня, Г.Г. Шпет), анализ сферы бессознательного как организованного языка особого рода (Ж. Лакан), трактовка языка как голоса бытия (М. Хайдеггер), открытие в языке шифров изначального смысла бытия (К. Ясперс) и др.; все эти концепции так или иначе затрагивали понятие символа и привносили в его трактовку новый смысл. Кроме того, исследование различных аспектов символического проводилось в рамках философской герменевтики (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер), собственно философии культуры (Э. Кассирер, И. Хейзинга) и т.п.
Можно без преувеличения сказать, что символ тем самым становится базовым понятием философии и культурологии XX века, неотъемлемым элементом множества её проблемных полей. При этом он всё больше и больше связывается с мифом, с одной стороны, и с социальными структурами — с другой, получив равные объяснительные и определяющие права как на диахроническом, так и на синхроническом культурных уровнях.
Подводя итог сказанному, отметим, что одной из наиболее ярко выраженных тенденций современной культуры является повышенный интерес (как теоретический, так и практический) к мифологии. Так же можно вполне доказательно говорить о неуклонном росте мифопоэтического мировосприятия, особенно среди молодежи и в творческой среде. Такой интерес к явлению, считавшемуся ранее всего лишь одной из форм культуры, заставляет задуматься о серьезных основаниях, созданных, так или иначе, современной культурной ситуацией, которые должны быть выявлены и проанализированы в различных аспектах. В условиях глобализации, информационного избытка и, следовательно, информационной усталости стремление человека к мифопоэтическому, ориентированность на миф определяются тяготением к миропорядку и поиском смысла. Как пишет современный исследователь: «У человека есть миф, ста- ло быть, есть смысл. И в этом — высшая истина мифа, многократно перекрывающая вопрос о его соответствии некой объективной истине. Именно это обстоятельство и объясняет, почему любой миф обладает чрезвычайно высокой энергией сопротивления по отношению к каким угодно фактам и событиям» (5).