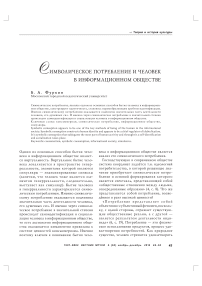Символическое потребление и человек в информационном обществе
Автор: Фуркин Борис Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (50), 2012 года.
Бесплатный доступ
Символическое потребление, являясь одним из основных способов бытия человека в информационном обществе, конструирует идентичность, становясь нормообразующим хребтом идентификации. Именно символическому потреблению оказывается подчинена значительная часть деятельности человека, его душевных сил. И именно через символическое потребление в значительной степени происходит самоидентификация и социализация человека в информационном обществе.
Консьюмеризм, символическое потребление, информационное общество, симулякры
Короткий адрес: https://sciup.org/14489362
IDR: 14489362
Текст научной статьи Символическое потребление и человек в информационном обществе
Одним из основных способов бытия человека в информационном обществе является виртуальность. Виртуальное бытие человека локализуется в пространстве гиперреальности, элементами которой являются симулякры — эмансипированные символы (заметим, что человек тоже является элементом гиперреальности, следовательно, выступает как симулякр). Бытие человека в гиперреальности характеризуется символическим потреблением. Именно символическому потреблению оказывается подчинена значительная часть деятельности человека, его душевных сил. И именно через символическое потребление в значительной степени происходят самоидентификация и социализация человека в информационном обществе, то есть аксиология информационного общества оказывается имманентно привязана к системе ценностей консьюмеризма. Именно поэтому ключом к пониманию бытия чело- века в информационном обществе является анализ его символического потребления.
Господствующая в современном обществе система координат задаётся т.н. идеологией потребительства, в которой решающее значение приобретает символическое потребление и основой формирования которого является спектакль, представляющий собой «общественные отношения между людьми, опосредованные образами» (4, с. 8). Что же представляется собой потребление, возведённое в ранг высокой ценности?
«Потребление представляет собой объективно-субъективный феномен, поскольку, с одной стороны, отражает существующие общественные реалии, а с другой — является результатом деятельности индивида» (6, с. 19). Потребление — это физическое использование продуктов, процесс удовлетворения потребностей. Как природное существо, человек стремится удовлетворить свои естественные потребности и потребляет товары и услуги, обеспечивающие воспроизводство его физических и психических сил. Но такая преимущественно или даже исключительно физиологическая роль потребления характерна лишь для низших слоёв населения традиционных обществ (пусть эти низшие слои и составляют подавляющее большинство населения). С переходом к индустриальной и постиндустриальной стадиям развития общества в структуре потребления всё большое значение приобретает престижное символическое потребление. Причём если природное потребление продиктовано физиологией человека и является функцией его тела, то символическое потребление определяется социальными установками. Таким образом, все естественные потребности удовлетворяются в формах, предписанных культурой и социумом.
Итак, если ранее потребление имело смысл исключительно с физиологической точки зрения — как процесс удовлетворения индивидом своих потребностей, то в информационном обществе оно постепенно изменяет свой статус и выходит за рамки экономической сферы, распространяясь в целом на социокультурное пространство. Потребление становится не только материальной практикой, но в большей степени символической, так как теряется связь с вещами как объектами потребления и человек начинает потреблять знаки и символы. Потеря материальности потребления является следствием того, что субъект перестает взаимодействовать с реальными объектами и погружается в виртуальную реальность. В связи с этим исчезают реальные основания процесса потребления, в качестве которых прежде выступали потребности, а потребление предстает как процесс производства и интерпретации знаков. Нельзя сказать, что такое демонстративное потребление является исключительно плодом перехода к информационному обществу, вовсе нет. Демонстративное потребление во многом наполняло жизнь аристократических элит традиционных обществ. Но ведь эти элиты составляли лишь совсем небольшой процент населения, а их потребительская деятельность, как правило, была оттенена исполнением прямых функций по захвату и удержанию власти. Демонстративное потребление есть текст, состоящий из символов, сознательно сконструированных знаков. Это потребление осуществляется в значительной степени для его чтения, раскодирования окружающими. Таким образом, рост производства постепенно приводит к тому, что продукты становятся не просто средством удовлетворения потребностей, но средством самовыражения личности. Когда уровень жизни достигает высокой отметки, человек начинает потреблять уже не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы с помощью товаров тем или иным образом сконструировать свое Я и заявить о себе окружающим.
«Практика потребления последовательно трансформирует социальное бытие человека, что позволяет выделить на каждом этапе специфический тип человека. Эта периодизация включает страны, которые эволюционируют в сторону консьюмеризма» (5, с. 11). Индустриальное общество формирует человека-потребителя, воспроизводящего и конструирующего себя посредством вещей-знаков (престижа, статуса, моды) как субъекта общества потребления. Посредством демонстративного потребления потребляется не столько вещь, сколько ее ценность в глазах окружающих, значение, придаваемое ей в социуме. Таким образом, сущность демонстративного потребления состоит в том, что вещь потребляется не по назначению (в соответствии с материальными потребностями), но как символ чего-то другого, что не заключено в свойствах самой вещи. Однако для демонстративного потребления характерно то, что символ отсылает к реальным различиям и отношениям, формируя общее с физическим миром «экономического» потребления онтологическое пространство. Это онтологическое пространство может быть охарактеризовано как среда потребления, состоящая из различных областей потребления. «Область потребления — это вертикальная стратифицирующая структура потребностей, в которой действуют механизмы социальной дифференциации. Материальные блага выступают здесь в качестве материала различения социального статуса. Наконец, место потребления — это пространство повседневности, фрагментирующей социальное пространство и время так, что в фокусе внимания человека оказываются краткосрочные, сиюминутные ожидания и планы. Утрачивается видение дальней перспективы, снижается степень влияния чувства долга, ответственности» (5, с. 19).
В постиндустриальном обществе потребление наделяется не только функцией группового престижа, но становится системой коммуникации и обмена. Охватывая все сферы общества, потребление структурирует и определяет поведение людей. В процессе потребления мы имеем дело не с вещами, интерпретируемыми обществом как знаки общественных ценностей, а со знаками, заключающими в себе особые социальные отношения и определенный смысл, придаваемый им в зависимости от контекста.
Если прежде в символическом обмене знаки скрывали за собой реальные отношения, то в современном мире знак становится симулякром, в котором реальность упразднена и который отрывается от своего прямого значения. Вся реальность сводится к эффекту, производимому имитацией реального (примером этого может служить натурализация, когда в результате искоренения природных объектов на их месте воздвигаются знаки природного). Таким образом, для постиндустриального общества характерна редукция символического, понимаемая как переход от символического обмена, в котором вещь приобретала знаковую форму, к симуляции. В симуляции исчезает связь символического с референтом. Так, в процессе потребления мы устраняемся от мира и потребляем вещи как знаки в их переносном значении.
Для постиндустриального общества характерно то, что знаки становятся саморефе- рентными, то есть они презентируют не нечто реальное, стоящее за ними (референт), а нечто, заключенное в самой знаковой структуре. Таким образом, основной чертой знаковой реальности постмодерна становится симуляция, вследствие чего наступает конец социального, ввиду отсутствия реальности в ее знаковости и симулятивности.
Такие важнейшие системообразующие координаты в жизни человека, как национальность, пол, религия и др., прежде несли в себе реальное содержание, а потому не подлежали обмену и изменению. В эпоху тотального потребления они становятся знаками среди знаков, а потому не обладают постоянством и могут обмениваться по желанию личности, поскольку внутреннее содержание этих определенностей нивелируется, а остается лишь внешняя, знаковая оболочка. Причём превращению в вещь-символ подвержены даже живые существа. Ж. Бодрийяр в «Системе вещей» пишет: «комнатные животные образуют промежуточную категорию между людьми и вещами. Собаки, кошки, птицы, черепахи или канарейки своим трогательным присутствием означают, что человек потерпел неудачу в отношениях с людьми и укрылся в нарциссическом домашнем мирке, где его субъективность может осуществляться в полном спокойствии. Отметим попутно, что эти животные лишены пола (нередко специально кастрированы для жизни в доме), — подобно вещам, они бесполые, хотя и живые, именно такой ценой они могут стать аффективно успокоительными» (2, с. 100).
Если прежде, потребляя вещь-символ, мы потребляли реальное содержание, выраженное в символической форме, то в обществе потребления мы потребляем вещь-знак, превращенный в псевдознак. Специфика псевдознака, или симулякра, состоит в том, что за этим знаком отсутствует означаемое, а есть лишь означающее означающего — знак, опосредованный кодом, обретающий свой смысл лишь в контексте других знаков.
Символом социальных отношений в обществе потребления является симулякр, но особенностью симулякра третьего поряд- ка (характерном для постиндустриального общества) является то, что все симулякры выводятся не один из другого и даже не из реального содержания, а из модели, путем модулирования отличий в рамках определенного кода. Особенность симулякра третьего порядка заключается в отсутствии репрезентативности, то есть единственной реальностью становится модель. Вследствие этого симулякры не просто символизируют социальные отношения, но воссоздают их в качестве гиперреальных. Появляется псевдосимвол, который, в отличие от собственно символа, всегда включен в ситуацию коммуникации: имеет адресанта и ориентирован на определенного адресата. Более того — адресант псевдосимвола конструирует своего адресата, опираясь не на ценности, а на стандартизированные формы поведения или восприятия, следовательно, псевдосимвол передает симулякр смысла вместо смысла.
«Означаемое исчезает, а ряды означающих больше никуда не ведут», — заключает Бодрийяр. Означающие не ведут к вещной реальности, но означаемое, некий смысл, придается и постигается в пространстве культурного кода. Сам по себе симулякр лишен однозначного содержания, поскольку является пустым знаком, в том смысле, что он не имеет определенного референта и именно этой пустотой он и приковывает к себе внимание человека. Сознание непреодолимо притягивают пустые знаки, лишенные какой-либо твёрдой референции. «Человеческий дух неодолимо привораживается пустым местом, оставленным смыслом», — делает вывод Бодрийяр (3, с. 139). Особенно, по его мнению, символическая эффективность слова достигает пика, когда произносится в пустоте, вне контекста и референции, равно как и все вещи-симулякры. Тем больше притягивают они наше внимание, чем более ничтожны и чем сильнее в них ощущается отсутствие определенного референта. Почему так происходит? Возможно, потому что «пустой» знак требует от человека наделить его собственным смыслом, само его восприятие есть твор- ческий акт в полном смысле этого слова. Иллюзорный знак-симулякр с необходимостью даёт человеку творческую свободу, пусть и такую же иллюзорную, — ведь смысловое поле интерпретации симулякров всё равно задаётся извне и с вполне конкретными целями, ради вовсе не иллюзорной выгоды.
Происходящая в постиндустриальном обществе эмансипация знака способствует тому, что знак начинает представлять самого себя, обретая смысл в соотнесении с гиперреальностью. Таким образом, ценность также включается в функционирование социального кода и становится релятивной, а потому соотносится с такими же ценностями в рамках определенного кода, а не с трансцендентными образцами.
Ключевым способом распространения и развития идеологии консьюмеризма является реклама. Реклама хотя и ставит своей явной целью увеличение продаж определённых товаров и услуг, на практике выполняет в обществе высокого потребления куда более важную роль. Реклама является не только и не столько ретранслятором консьюмеристского бытия, сколько его непрерывным конструктором. «Целью рекламы и предложения как такового в более общем виде является необходимость внушать в первую очередь не тот или иной товар, а нечто более фундаментальное, определенный стиль жизни, стройное мироздание, удобное для человека и способное доставить ему счастье и удовольствие (7, с. 179). Другими словами, реклама вовсе не показывает человеку путь к удовлетворению уже существующих потребностей, а скорее создаёт поле смыслов, на котором могут вырасти новые. «Главенствующая роль в этом процессе принадлежит производству желаний человека. Поскольку нарциссизм в современном обществе процветает, то производство и средства массовой информации ориентируются в основном на Нарцисса, как главное действующее лицо практики потребления. Нарцисс, болезненно жаждущий собственного признания, тешит собственное самолюбие, ошибочно полагая, что не он заявляет обществу о своих желаниях, а потом ждет их удовлетворения, а само общество предугадывает их. В этом и заключается “забота”, как основа подчинения человека обществом, когда последнее не угадывает желания индивида, а формирует их» (7, с. 180).
При этом именно потребление становится наполнением для фундаментального культурного кода, в значительной мере определяя систему ценностей, эстетику и само поле интерпретаций культурного кода общества. Исходя из вышеизложенного, мы можем вслед за Бодрийяром, трактовать потребление в информационном обществе как «систему, которая обеспечивает порядок знаков и интеграцию группы; оно является, следовательно, одновременно моралью (системой идеологических ценностей) и системой коммуникации, структурой отношений» (1, с.108).
Потребление в информационном обществе также конструирует идентичность, становясь нормообразующим хребтом идентификации. Потребление как конструирование собственной идентичности существует в той мере, в какой индивид способен осуществлять свободный выбор товаров и услуг и с их помощью создавать свой образ. Именно потребляя, человек конструирует свою идентичность, то есть отвечает на вопрос: кто я такой, но негативный аспект этого процесса заключается в том, что человек само-определяет себя уже не в мире реальных вещей, а в мире симулякров. Вещь становится знаком образа ее обладателя, вписывая, таким образом, человека в свою семиотическую систему.
«Символическое потребление охватывает собой весь спектр человеческих отношений … хоронит реальное потребление, поскольку реальность заменяется гиперреальностью симулякров. Вследствие этого преж- ние модели социального превращаются из средства описания в онтологические структуры, управляющие жизнью современного общества. Так, например, средства массовой информации, освещающие реальные события и несущие функцию отражения, сегодня уже не отражают, а сами претендуют на статус реальности» (7, с. 180).
С потерей традиционного типа социальной стратификации, именно потребление рассматривается в качестве детерминанты социального положения и критерия социального неравенства, фактора и инструмента социальной мобильности или же отдельного социального института. Идеология потребления последовательно редуцирует культурную жизнь и многомерную сложность социального бытия к узкому набору действий, направленных на обладание материальными благами. Приобретение и демонстрация символов кладутся в основу стилизации социальной жизни. «Социокультурные функции современного потребления теперь раскрываются через: 1) смещение стратификационных параметров в сферу стиля жизни и стиля потребления; 2) приоритетность символического содержания объектов потребления; 3) конструирование через потребление социальной идентичности (8). При этом структура символического потребления оказывается своеобразной преградой для вертикальной социальной мобильности, поддерживаемой элитами. Если в традиционном обществе вертикальная мобильность ограничивалась сложившими иерархическими структурами, воспроизводимыми вместе с самовоспроиз-водством населения, то, что могло бы поддерживать недоступность социального положение элит? Что является современным эквивалентом недоступного для низших страт донжона феодала? Такой «башней из слоновой кости» для элит и становится символическое потребление.