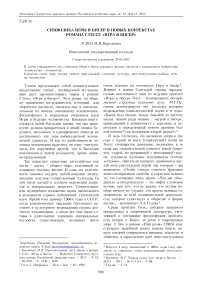Символика игры в бисер в новых контекстах романа Г. Гессе «Игра в бисер»
Бесплатный доступ
В статье утверждается, что символика Игры в бисер содержит догадку писателя о грандиозном изобретении человечества – компьютере.
Игра, утопия, символ, виртуальный, служение, культура, интеллектуальная свобода, истина, магический
Короткий адрес: https://sciup.org/148101276
IDR: 148101276 | УДК: 82
Текст научной статьи Символика игры в бисер в новых контекстах романа Г. Гессе «Игра в бисер»
Статья представляет собой концептуальное продолжение статьи1 , посвященной исследованию двух противостоящих миров в романе Г.Гессе «Игра в бисер»2. Этот роман, по общему признанию исследователей, итоговый, для творчества писателя, оказался еще и ошеломительным во многих отношениях эстетическим, философским и моральным открытием идеи Игры в будущее человечества. Книжная виртуальность самой Касталии такова, что она неминуемо должна превратиться в некий символ будущего, желанного и одновременно никогда не достижимого, как знак амбивалентной человеческой сущности. И как из двойственности человека невозможно выделить ни одну «чистую» часть без нарушения другой, так и Касталия невозможна в любой реальности, кроме книжно-придуманной.
Так нарастает символика касталийства как части – касты – общего мира, отделенной от основного массива жизни. И сама эта отделенность означает неудачу любой попытки легитимизации отдельно существующей культуры (в том числе науки) в плотном окружении запретов и материальных недостач. Сомнительное или неуверенное положение науки наблюдалось в реальности страны победившей утопической идеи. Яркий тому пример: 1960-е годы в СССР, когда романтическое ожидание блестящего научного и культурного возрождения страны достигало кульминации, а люди все еще были готовы к длительному терпению материальных неудобств существования, возникает нечто
очень похожее на гессевскую Игру в бисер 3 . Именно в жизни Советской страны парадоксально воплощается одна из ведущих проблем «Игры в бисер» Гессе – благородного, беспримесного служения высокому духу. М.Г.Пу-гачева демонстрирует это, исследуя историю возрождения социологической науки в те годы: «Каков был баланс между борьбой за чистоту науки, знание ради знания – «игрой в бисер», приводившей к компромиссу с властями, и переходом в определенный момент времени (какой именно?) на положение второй науки?»4.
И ведь случилась эта желанная «игра в бисер» с одной из наук (социологией) почти по Гессе: семинарское движение, возникшее в те годы как охранительный контекст новой (впрочем, старой, но прерванной с революцией) науки, создавало иллюзию легитимности особого «острова», обитатели которого занимаются чистой интеллектуальной игрой: мы говорим – вы понимаете. «Особо следует отметить функцию интеллектуальной свободы и служения истине, то, что составляет этику науки. «Что нас объединяло и воодушевляло – это пафос служения истине, при том, что не важно, что истина вообще ничему не служит, это просто высшая самоценность во всей познавательной деятельности, которая существует в обществе в форме науки», - вспоминает Л.А.Седов»5.
Среди проблем Гессе, которые напрямую продолжены в современной литературе, тяготеющей к постановке философских проблем, есть вопрос о Книге, ее роли в современном мире. У.Эко в романе «Имя розы» (1985) конструирует подобный сюжет поиска книги, вокруг которой совершаются интриги, подлости и убийства, а параллельно идет интеллектуальная дискуссия между старым библиотекарем Хорхе и инквизитором Вильгельмом Баскервильским о назначении книги в человеческом мире. Смысл вопроса – тот же, что у Гессе, – хранить ли книгу (знания) в изоляции от «практического употребления» как символ нравственной и интеллектуальной чистоты или допустить к ней читателя, чтобы он мог свободно оперировать ее идеями, генерируя их в новые? Цена этого вопроса в сюжетных перипетиях остается все такой же высокой – жизнь. Ценность же неизмеримо возрастает в условиях современного информационного общества, напоминающего некоторыми чертами высокомерную Касталию. В современном мире небывало обострились все прежние и новые проблемы: мощная неостановимая поступь научных открытий и экспериментов, процесс глобализации со всеми ее противоречиями – все это, происходящее в условиях отсутствия большой войны и одновременно усиления угрозы апокалипсиса вследствие экологических, экономических, межнациональных, политических и нравственных катастроф, требует особых интеллектуальных усилий человечества вкупе с нравственными, чтобы правильно решить альтернативу своего дальнейшего существования. «Информация в современном мире, – пишет М.Н.Виролайнен, – становится актантом, непосредственным носителем действия – причем того действия, с которым напрямую сопряжены властные функции и властные полномочия. Информационные потоки превратились в самостоятельную реальность»6. Не об этих ли «информационных потоках», законсервированных в Касталии, предупреждал Гессе в своей удивительной «Игре в бисер»? При этом писатель на протяжении всего повествования тщательно контролирует свою же утопию о сохранении чистого интеллектуального продукта человечества, одновременно напоминая о том, что любая консервация чего-либо опасна и нежизнеспособна.
В новом контексте литературы трудно безоговорочно согласиться с однозначным определением жанра «Игры а бисер». С одной стороны, мы видим здесь ярко выраженные черты утопии, причем классического типа: достаточно замкнутое, отдельное от большого мира, островное пространство; персонаж-повествователь; персонаж-покровитель (здесь – во множественном числе); размытая, безликая масса обитателей Касталии и пр. С другой стороны, налицо – протест главного героя против Кастальской изоляции, что указывает на антиутопическое перерождение сюжета. Но уход Кнехта из Касталии не означает отказа от его предназначения
– служения Идее; жизнь его прервана в момент конца одного этапа жизни и начала нового, метафизического (в лице ученика).
«Игра в бисер», как отмечает А.В.Михайлов, – это текст (как и все другие книги Гессе) «для размышления, для раздумий, а следовательно, для неинфантильного читателя. Некий ответ, некое подобие ответа в такой книге все же есть, да читатель вовсе и не оказывается внутри ее в тенетах безысходных сомнений и неведения! – если угодно, этот ответ заключается в призыве вернуться к традиции, то есть к полноте и богатству созданных человечеством ценностей и смыслов, в призыве к человеку и к человечеству «одуматься» – перед лицом грозящих катастроф, ужасов, – в проповеди возвращения к позитивным ценностям культуры. Если уж «проповедь», то тут человечеству проповедуется его же история <…> история накопления позитивно-человеческого. Но только «проповедь» «Игры в бисер» лишена и тени нарочитости, без которой не обходятся публицистические тексты Гессе»7.
Смысл Игры в романе сформулирован строго научно, и сама научность в силу «ученой» серьезности в контексте художественной сферы романа обретает ироническое содержание. Но это провокационная научность, которая разоблачается уже в самом названии: мало того, что речь идет об игре, так еще и предмет этой игры мелочен, как бисер, а в точном переводе – просто совсем уж никчемные стекляшки (Das Glasperlenspiel). Вот как описаны правила этой игры: «Эти правила, язык знаков и грамматика Игры, представляют собой некую разновидность высокоразвитого тайного языка, в котором участвуют самые разные науки и искусства, но прежде всего математика и музыка (или музыковедение), и который способен выразить и соотнести содержание и выводы чуть ли не всех наук. Игра в бисер – это, таким образом, игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры, она играет ими примерно так, как во времена расцвета искусств живописец играл красками своей палитры. Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи, всем, что последующие периоды ученого созерцания свели к понятиям и сделали интеллектуальным достоянием, всей этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет как органист на органе, и совершенство этого органа трудно себе представить – его клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его регистры почти бесчисленны, теоретически игрой на этом инструменте можно воспроизве- сти все духовное содержание мира. А клавиши эти, педали и регистры установлены твердо, менять их число и порядок в попытках усовершенствования можно, собственно, только в теории: обогащение языка Игры вводом новых значений строжайше контролируется ее высшим руководством. Зато в пределах этой твердо установленной системы, или, пользуясь нашей метафорой, в пределах сложной механики этого органа, отдельному умельцу Игры открыт целый мир возможностей и комбинаций…»8. Какое мощное изобретение человеческого интеллекта скрыто в этом описании? Вряд ли Гессе сам подозревал, насколько он предугадал «твердо установленную систему», напоминающую «сложную механику … органа», позволяющую открыть «отдельному умельцу Игры … целый мир возможностей и комбинаций». В.А.Кругликов сравнивает Игру в бисер с шахматами или картами9. Мы же узнаем в этой Игре – компьютер. Таков контекст Игры в бисер сегодня. И ведь догадывается Кнехт о скрытом изъяне культовой Игры, о чем он и докладывает в своем письме к наставнику Цбиндену и, следовательно, признает правоту Плинио Дезиньоре относительно Касталии. «Если Плинио называет наших учителей и наставников кастой жрецов, а нас, учеников, – их покорной, кастрированной паствой, то это, конечно, грубость и преувеличение, но доказательством малоценности всего нашего духовного склада служит наше смиренное бесплодие. Мы, например, анализируем, говорит он, законы и технику всех стилей и эпох музыки, а сами никакой новой музыки не создаем. Мы читаем и комментируем, говорит он, Пиндара или Гете, но сами стыдимся писать стихи <…>. Страшно бывает, когда он, например, говорит, что мы, касталийцы, ведем жизнь комнатных певчих птиц, не зарабатывая себе на хлеб, не зная жизненных трудностей и борьбы, не имея и не желая иметь ни малейшего понятия о той части человечества, на чьем труде и на чьей нищете основано наше роскошное существование» (С.132). Здесь отчетливо видна еще одна ведущая (и опасная) черта компьютера: сам он не производит никаких мыслей и открытий. И именно этому творческому бесплодию Игра в бисер учит своих адептов. А творческое бесплодие ведет к остановке движения, что значит – к консервации и конечной, смертельной изоляции Касталии от остального открытого мира, в котором, несмотря на хаос и социально-матери- альную разделенность общества, все-таки совершается естественный процесс движения, в том числе и научного. В условиях же Касталии осложняются любые отношения ее обитателей, например, дружба Кнехта и Дезиньори омрачена задачей, которую ставит перед Кнехтом его ментор: он должен защитить Касталию от критики и нападок извне. И, наконец, самое опасное в Игре в бисер, о чем Кнехт также догадывается, – проблема управления Игрой: обогащение языка Игры вводом новых значений строго контролируется ее высшим руководством. Вопрос в том, кто будет представлен в этом руководстве в будущем.
Роман «Игра в бисер» можно рассматривать как эстетически итоговое и концептуально завершенное произведение Гессе. В нем слышны отголоски едва ли не всех прежних сюжетов писателя, построенных на философских спорах. «Можно предположить, – пишет Е.Иваницкая, – что в «Игре в бисер» автор организует текст именно приемом «адхъяропа-апавада», упорно воздействуя на сознание читателя противоречивыми утверждениями, которые взаимно уничтожают друг друга (а не обогащают и не развивают, как считают сторонники идеи равноценности двух полюсов), уничтожают ради того, чтобы очистить сознание читателя и подготовить его к восприятию – чего? Неизвестно. Скорей всего того, что мир – дремучий лес непостижимых тайн…»10. Здесь-то и зарыта «собака» компьютера: постигать непостижимое в связях, которые вдруг обнаруживаются не в привычном времени и месте, не в реальности, а в некой «магической действительности», которую «необходимо было <…> отграничить от внешних, немагических событий, надо было в самом романе создать некое замкнутое пространство, некий «алхимический тигель» образности <…>. Эта необходимость обусловила, с одной стороны, постепенное испарение, превращение реально-бытового плана в книгах Гессе в реалии и символы «магической действительности», а с другой – отграничение повествуемой истории от действительности путем смены костюмов, перенесения места действия в далекое прошлое или будущее, или же путем создания подобного автономного пространства внутри современной действительности <…>»11.
Отмеченные выше особенности Игры в бисер, вкупе с такими ее чертами, как растворенная в общей массе игроков индивидуальность, вместо которой проступает безликое «мы», сознание творческой изоляции игроков от того, что должна хранить Игра, – все это входит в состав основной метафоры романа, превосходящей смысл любого технического изобретения человеческого ума по вариативности собственных смыслов. «Компьютер» Гессе врастает в мир
Касталии как знак ее общественного и социального качества, как регулятор и контролер, проявитель отношений в обществе, основанном на безымянности его членов, поклоняющихся и участвующих в Игре в бисер.
THE SYMBOLISM OF THE GLASS BEAD GAME IN NEW CONTEXTS OF NOVEL BY H. HESSE «THE GLASS BEAD GAME»
Список литературы Символика игры в бисер в новых контекстах романа Г. Гессе «Игра в бисер»
- Бороденко Н.В. Противостояние двух миров в романе Г.Гессе «Игра в бисер»//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2011. -Т.13. -№ 2(6). -С. 1444 -1446.
- Гессе Г. Избранное/Пер. с нем. -М.: 1991.
- Пугачева М.Г. Вторая наука или «игра в бисер»//НЛО. -2011. -№ 5 (111). -С.68. Там же. -С.72.
- Виролайнен М.Н. Филология в информационном обществе//Русская литература. -2008. -№1. -С.68.
- Михайлов Ал. В. Мир Германа Гессе//Литературное обозрение. -1986. -№5. -С.57 -60, 58.
- Гессе Г. Избранное/Пер. с нем. -М.: 1991. -С.80 -81.
- Кругликов В.А. Человек-слуга Гессе//Кругликов В.А. Образ «человека культуры». -М.: 1988. -С.88.
- Иваницкая Е. Нет ничего явного, что не стало бы тайным//Вопросы литературы. -1994. -Вып.4. -С.173 -187, 182.
- Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. -Тбилиси: 1984. -С.65.