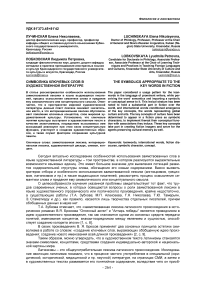Символика ключевых слов в художественной литературе
Автор: Лучинская Елена Николаевна, Лобковская Людмила Петровна
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Филология и лингвистика
Статья в выпуске: 5 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности использования заимствованной лексики в языке выдающихся писателей, процесс осмысления семантики слова и придания ему символического или концептуального смысла. Отмечается, что в пространстве мировой художественной литературы данный пласт лексики занимает значительное место, и что интернациональная лексика обусловливает появление ключевых концептов, слов мировой художественной культуры. Установлено, что ключевые понятия культуры выступают в художественном тексте в качестве знака-символа, посредством вызываемых ими ассоциаций реализуют при этом свою концептуальную функцию, участвуют в создании художественных образов, а также служат фактором сохранения культурной памяти.
Заимствованная лексика, интернациональная лексика, художественный дискурс, символ, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14950269
IDR: 14950269 | УДК: 81''373.45+81''42
Текст научной статьи Символика ключевых слов в художественной литературе
Сегодня актуально исследование особенностей использования заимствованных слов в языке художественной литературы – том пространстве, в котором реализуются выразительные возможности языковых единиц. Это имеет большое значение для выявления потенций развития содержательной структуры слова, обогащения его новым содержанием. Важно выявить критерии отбора и особенности использования заимствованной лексики (англицизмов, грецизмов, латинизмов и пр.) в языке выдающихся писателей, рассмотреть процесс осмысления семантики слова и придания ему символического или концептуального смысла.
О целесообразности изучения указанной проблемы свидетельствует тот факт, что трудов современных ученых, в которых освещаются вопросы о роли заимствованной лексики в языке художественного (прозаического или поэтического) произведения, крайне недостаточно, а существующие работы (Т.А. Зубкова; М.П. Алексеева, Г.Н. Николаева, Т.Ю. Тамерьян, Э. Стаматиаду и др.), как правило, касаются лишь творчества отдельных писателей, причем обобщенных данных в науке нет.
Т.А. Зубкова отмечает, что «заимствованная лексика латинского происхождения в исторических романах В.Я. Брюсова "Огненный ангел" и "Алтарь победы" является проводником в идею художественного произведения, так как становится одним из основных средств передачи понятий, именования концептов, знаком-посредником между явлением и сущностью, способствует созданию колорита эпохи» [1, c. 8].
В своих произведениях В. Я. Брюсов применяет два основных принципа эстетики символизма в работе со словом: «создание ключевых слов, выражающих обобщенную идею произведения; создание нового именования всей длиной произведения» [2, c. 9].
Таким образом, можно утверждать, что в художественном тексте латинизмы становятся знаками-символами, концептами, средствами создания индивидуально-авторской и национальной картины мира.
Латинизмы – это общеупотребительная лексика латинского происхождения. Исследование эволюции латинизма показало, что в процессе частого употребления в специальной (юридической, исторической, медицинской и пр. научной) литературе, на страницах СМИ, а затем и в художественных текстах развивается его понятийное содержание, вследствие чего он приоб- ретает расширенное, концептуальное и зачастую универсальное значение, становясь, таким образом, именем культурного концепта.
Важно подчеркнуть, что в картине мира писателя/поэта, латинизм/грецизм/англицизм и пр., репрезентируя ключевой культурный концепт, в понятийном отношении может быть раскрыт сквозь призму художественного дискурса: с точек зрения автора, героя и читателя. Это значит, что функционирование заимствованных слов (латинизмов, в частности) в художественном дискурсе позволяет считать их дискурсивными единицами.
В подтверждение вышесказанного Т.А. Зубкова приводит интересный факт, что «концепт "алтарь" в романах "Огненный ангел" и "Алтарь победы" по мере развития сюжета и реализации философско-эстетических взглядов Брюсова приобретает абстрактный смысл и выявляет новый сигнификат, становится символическим выразителем общей брюсовской идеи – "жертвенность во имя достижения вечных ценностей" и ключевым словом в обоих произведениях» [3, c. 13].
Добавим, что концепт жертвенности входит в русскую национальную картину мира и шире – в общенациональную картину мира. Таким образом, можно предположить, что исследование корпуса художественных текстов определенной культуры может дать интересные результаты, подтверждающие нашу идею, – существование универсального концептуального ядра ключевых слов мировой культуры.
Т.А. Зубковой выявлено несколько концептуальных полей в проанализированном материале: католицизм, ведовство, университет, наука и искусство [4, c. 15]. Так, например, концептуальное поле «Наука и искусство» включает следующие номинации: авторитет, гемма, декламатор, декламация, диспут, колонна, лекция, литература, маска, медицина, оратор, портик, сатира, сентенция, статуя и др. [5, c. 15].
Данные словарей доказывают, что приведенные выше слова являются сегодня интер-национализмами, т.е. общими для мировой культуры реалиями. Данный факт свидетельствует о том, что в пространстве мировой художественной литературы данный пласт лексики занимает значительное место и что интернациональная лексика обусловливает появление ключевых концептов, слов мировой художественной культуры.
Анализ текстов произведений И. Бродского показывает, в частности, что заимствованная лексика, как правило, из греческого и латинского языков, функционирующая в поэтическом дискурсе, номинирует ключевые понятия и реалии архитектуры.
Являясь формой отображения поэтической картины мира, язык художественной литературы обладает рядом специфических особенностей, среди которых особое значение приобретают эмоциональные и экспрессивные средства выражения. В.О. Винокур отмечал, что «слово в поэтическом языке выступает как знак искусства и мотивируется его законами, а не законами "практического языка"», и в этой двойственной природе слова кроется глубинная связь между литературоведением и лингвистикой [6, c. 3].
В работах Э. Стаматиаду, посвященных архитектурной терминологии, рассматривается коннотативная функция архитектурной лексики, которая в художественных текстах нередко выходит из области сухой терминологии [7].
В науке отмечается, что архитектурные термины используются в художественном тексте в качестве символа, служа потребности человека, резко отличающей его от животных, – потребности в символизации жизни в некой символической Вселенной, которую только с точки зрения языка можно привести в порядок [8, c. 95].
У символа есть одно важное свойство – его мотивированность, касающаяся отношения между конкретными и абстрактными элементами символического содержания. Мотивированность является отличительной особенностью символа по сравнению с простым языковым знаком, в котором связь между означающим и означаемым произвольна и конвенциональна, она же сближает символ с другими мотивированными семиотическими – тропами метафорой и метонимией [9, c. 125].
По мнению Ю.М. Лотмана, само архитектурное пространство живёт своей семиотической жизнью, причём двойной. С одной стороны, оно моделирует универсум: структура мира построенного и обжитого переносится на весь мир в целом. С другой, оно моделируется универсумом: мир, создаваемым человеком, воспроизводит его представление о глобальной структуре мира. С этим связан высокий символизм всего, что, так или иначе, относится к создаваемому человеком пространству его жилища [10, c. 676].
Общую символику архитектуры можно разделить на три уровня в ее иерархии. Первый уровень значений связан собственно формой архитектурного сооружения и идеей космической организации Пространства, Вселенной (зиккурат, пирамида, храм, собор и т.д.). В этом смысле, внешняя форма храма (собора) синтезирует в себе символику пирамиды – олицетворяет трой- ственный принцип Творения (небо, земля, ад), бинарность идеи жизни (бессмертия) и смерти – символ духовного восхождения и горы – связана с идеей медитации и духовности. Второй уровень значений связан с архитектурными деталями и частями сооружения (колонны, пилоны, купола, лестницы, крыши и т.д.) – отражают идею центра вещей в Космосе. Символизируются отдельные элементы мироздания, и соответственно, их функции. Третий уровень – это символические значения, связаны с характером форм, цветом, материалом, числом. Эти вторичные символы признаны конкретизировать значение ведущих форм и их элементов, они указывают на определенный эзотерический (тайный) смысл, который несет в себе данная форма. В то же время вторичные значения могут существенно изменить основную символику (например, христианский храм).
Архитектурная лексика в художественном тексте нередко исполняет дополнительную роль, выражая, например, стремление человека изобразить посредством зодчества выраженную и развернутую картину мира.
Перед тем как рассмотреть роль заимствованной /интернациональной/ лексики в произведениях И. Бродского, следует заметить, что язык художественной литературы представляет собой сложную многоуровневую структуру, отражающую внутренний мир автора. Все многообразие взглядов, формирующееся под влиянием эмоционально-чувственного или рационального мышления на разных уровнях и этапах развития человека, фиксировалось с помощью языка, находит отражение в произведениях художественной литературы, передающих не только индивидуально-эстетическую, но и социально-историческую точку зрения на описываемые события [11, c. 42].
В своих текстах поэт замечает переплетение общественной и частной жизни в античном мире, используя иноязычную лексику: «Процесс очищения ( катарсиса ) весьма разнообразен и носит как индивидуальный (жертвоприношение, паломничество к священному месту, тот или иной обет), так и массовый ( театр , спортивное состязание ) характер. Очаг не отличается от амфитеатра , стадион от алтаря , кастрюля от статуи » [12, c. 390].
В данном отрывке выделены заимствования из греческого языка, использованные поэтом для описания ключевых понятий и реалий культуры.
Ср.: «В отличие от оледенения, цивилизации – какие они ни на есть – перемещаются с юга на север. Как бы стремясь заполнить вакуум, оставленный оледенением. Тропический лес постепенно одолевает хвойный и смешанный – если не с помощью листа, то с помощью архитектуры . Иногда возникает ощущение, что барокко, рококо , даже шинкель – просто бессознательная тоска вида о его вечнозеленом прошлом. Папоротник пагод – тоже. Купола юрт и иглу , конусы палаток и чумов . Я видел мечети Средней Азии – мечети Самарканда, Бухары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Они – шедевры масштаба и колорита, они – свидетельства лиричности Ислама» [13, c. 406].
Важно подчеркнуть, что между различными функциональными стилями происходит продуктивный обмен лингвостилистических средств, следствием которого является рождение новых понятий и обогащение системы функциональных стилей. Именно этот процесс исследуется на примере архитектурных терминов, функционирующих в произведениях И. Бродского. Из 387 стихотворений (сб. «Перемена империи» и «Письма римскому другу») в 150 появляются архитектурные термины, представляющие всю гамму от общеупотребительных слов ( пол, потолок, порог ) до узконаучных терминов ( пролёт, ниша, колоннада, арка, стропила, карниз, аркатура).
Номинации архитектуры встречаются в названиях стихотворений И. Бродского: Архитектура [14, c. 478–480], Einem alten Architekten in Rom («старому архитектору в Риме») [15, c. 117–120], « Храм Мельпомены» [16, c. 612].
Анализ поэтических текстов И. Бродского показывает, что поэт часто использовал архитектурную лексику, заимствованную из греческого и латинского языков:
«Чем был бы Рим иначе? Гидом, / толпой музея , / автобусом, отелем, видом / Терм, Колизея » («Пьяцца Маттеи»; 17, c. 371).
«…облекшись в пирамиду , в куб , / как точится идеей места / на Хронос куб» [«Архитектура»; 18, c. 478].
«Ибо театр – храм / искусства» [«Театральное»; 19, c. 611].
«Вот почему обречена корона; / республика же может устоять, / как некая античная колонна » [ «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»; 20, с. 242].
«…и кипарисы, / как египетские обелиски » [«Вертумн»; 21, c. 513].
«...чтоб жизнь распахнулась, как тысяча арок ...» [ «Письмо к А. Д.»; 22, с. 48-49].
«Теперь там садится солнце, кариатид слепя» [«В Италии»; 23, c. 445].
« бюст , – скажет на языке развалин / и сокращающихся мышц, – бюст, бюст » [«Бюст Тиберия»; 24, c. 411].
Согласно Г.Г. Почепцову, «символ содержит в себе больше информации, чем обычное слово [25, c. 11]. Говоря об исторической природе символа, Г.Г. Почепцов подчеркивает: «символы аккумулируют человеческий опыт, отмечая его ключевые моменты. Именно по этой причине человечество порождает символы, которые выступают в виде краеугольных камней, разделяющих типы жизнедеятельности и социальные группы» [26, c. 12].
В этом контексте можно указать и другие научные подходы к изучению символа: «Символ является комплексным знаком, в плане содержания которого имеются минимум два равноправных ядра – прямое конкретно-денотативное значение и переносное, чаще всего абстрактное или отвлеченное значение. Второй ярус содержания символа может носить: а) первичноархетипический, б) культурно-стереотипный и г) субъективно-авторский характер (среди авторских символов особо интересны концептуальные (метафизические) и условно-гипотетические) [27, c. 50].
Как известно, символ является выражением мировоззрения данного общества и принадлежит к языку/речи следующим образом: в структуре исходного значения слова (основного имени) имеются семы, составляющие его «символическую ауру». Эта аура носит древний, архетипический характер или обусловлена стереотипными для данной культуры ассоциациями. При актуализации имени в соответствующем контексте аура воплощается в переносном символическом значении [28, c. 140].
Всемирно известный архитектор П. Беренс сказал: «Архитектура служит двум идеалам: практицизму и красоте [29, c. 26]. Возможно, именно из-за своей дуалистичной природы архитектурное сооружение становится символом культурной ауры эпохи прошлого, настоящего или будущего, например, древние настройки: пирамида Хуфу/Хеопса (Египет) или Стоунхендж (Англия), или собор ХХ века – Саграда Фамилия (Испания) и здание в стиле хай-тек Дефанс (Франция). Здания архитектуры всегда являлись местом поклонения людей, они восхищали и пугали своей грандиозностью и монументальностью.
« Атланты , нимфы , голубки, голýбки, / аканты , нимбы , купидоны , львы / смущено прячут за спиной обрубки. / Не пожелал бы сам Нарцисс иной / зеркальной глади за бегущей рамой, / где пассажиры собрались стеной, / рискнувши стать на время амальгамой » [«Einem alten Architekten in Rom»; 30, c. 118].
«…И как–то в поздний час / сидел я на развалинах абсиды / В провалах алтаря зияла ночь. / И я ― сквозь эти дыры в алтаре ― / смотрел на убегавшие трамваи, / на вереницу тусклых фонарей. / И то, чего вообще не встретишь в церкви, / теперь я видел через призму церкви» [ « Остановка в пустыне»; 31, c. 109].
Добавим, что реалии и, в частности, архитектурные термины приобретают в рамках художественной речи дополнительные оттенки и служат фактором художественной экспрессивности.
Как показывает анализ, каждая культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики, и, являясь важным механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного ее пласта на другой [32, c. 241]. Элементарные по своему выражению символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем сложные. Именно «простые» символы образуют символическое ядро культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить о символизирующей и десимволизирующей ориентации культуры в целом.
Изучение материала (на примере текстов И. Бродского) позволяет сделать вывод о том, что ключевые понятия культуры выступают в художественном тексте в качестве знака-символа и посредством вызываемых им ассоциаций реализуют при этом свою концептуальную функцию, участвуют в создании художественных образов, являясь дискурсивными элементами текста, а также служат фактором сохранения культурной памяти.
Список литературы Символика ключевых слов в художественной литературе
- Зубкова Т.А. Латинизмы в исторической прозе В.Я. Брюсова/«Огненный ангел», «Алтарь победы»: автореф. дисс. … канд. филол. наук. -М., 2000. -33 с
- Глазунова О.И. Поэтика Иосифа Бродского: автореф. дисс. … докт. филол. наук. -СПб., 2008. -48 с
- Стаматиаду Э. Лексико-семантические, структурные и функциональные особенности архитектурной лексики (на материале английского, немецкого, греческого и русского языков): автореф. дисс. … канд. филол. наук. -Майкоп, 2010. -23 с
- Стаматиаду Э. "Культурная память" художественного текста (в соавт. с Лучинской Е.Н.)//Дискретность и континуальность в языке и речи. Материалы II Межд. научной конференции 14-18 окт. 2009 г. -Краснодар: КубГУ, 2009. -С. 158-160
- Маслова В.А. Лингвокультурология. -М.: Академия, 2001. -208 с.
- Шелестюк Е.В. Символ versus троп: сравнительный анализ семантики//Филологические науки. -2001. -№ 6. -С. 50-58.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. -СПб: Искусство-СПб, 2000. -704 с.
- Глазунова О.И. Поэтика Иосифа Бродского: автореф. дисс … докт. филол. наук. -СПб., 2008. -48 с.
- Бродский И.А. Перемена империи. Стихотворения (1960-1996). -М.: Независимая газета, 2001. -656 с.
- Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. -М., 1999. -229 с
- Шелестюк Е.В. Символ versus троп: сравнительный анализ семантики//Филологические науки. -2001. -№ 6. -С. 50-58
- The Hutchinson Dictionary of the Arts/Словарь искусств. -M: Внешсигма, 1996. -537 с
- Лотман Ю.М. Семиосфера. -СПб: Искусство-СПб, 2000. -704 с