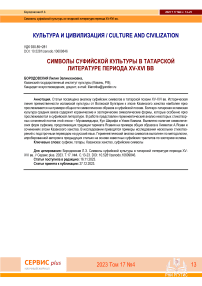Символы суфийской культуры в татарской литературе периода XV-XVI вв
Автор: Бородовская Л.З.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 4 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу суфийских символов в татарской поэзии XV-XVI вв. Историческая линия преемственности исламской культуры от Волжской Булгарии к эпохе Казанского ханства наиболее ярко прослеживается на примере общности символических образов в суфийской поэзии. Болгаро-татарская исламская культура средних веков содержит коранические и эзотерические символические формы, которые особенно ярко прослеживаются в суфийской литературе. В работе представлен герменевтический анализ некоторых стихотворных сочинений поэтов этой эпохи - Мухаммедьяра, Кул Шарифа и Умми Камала. Выявлено наличие символических форм суфизма, продолжающих традиции тариката Ясавия на примере общих образов в Хикметах А.Ясави и сочинениях эпохи Казанского ханства. В исследовании приводятся примеры исследования нескольких стихотворений с подстрочным переводом на русский язык. Герменевтический анализ символов выполнен по методологии, апробированной автором в предыдущих статьях на основе известных суфийских трактатов по эзотерике ислама.
Суфизм, татары, казанское ханство, суфийские символы
Короткий адрес: https://sciup.org/140304343
IDR: 140304343 | УДК: 930.85+281 | DOI: 10.5281/zenodo.10609846
Текст научной статьи Символы суфийской культуры в татарской литературе периода XV-XVI вв
Submitted: 2023/11/16.
Accepted: 2023/12/27.


SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Введение .
Развиваясь в общем культурном пространстве государств арабо-мусульманского Востока, татарская литература эпохи Казанского ханства (1437-1552) восприняла многие жанры и символы мировой суфийской поэзии. Большинство ученых, поэтов и шейхов Казанского ханства были последователями тарикатов Ясавийа или Накшбандийа: хан и поэт Мухаммад Амин (кон. XV – нач. ХVI вв.), Мухаммедьяр, Умми Камал, Хасан Кайгы, Кул Шариф. Пройдя несколько веков развития, булгаротатарская исламская культура получила широкое развитие, укрепилась в народном сознании, синтезировавшись с древними традиционными праздниками и обычаями.
Традиционные символы ислама быстро распространились и вошли в текст национальной культуры татар [4], в том числе, благодаря мобильности дервишей, их вовлеченности в жизнь простого народа. Суфизм вошел в татарскую народную культуру как естественное продолжение влияния мусульманской религии на все стороны жизни общества. «Ислам, являясь в первое время проникновения в Волжскую Булгарию в основном религией интеллектуальной элиты, к середине ХVI в. становится религией народных масс» [7, с.80]. Особенностью ислама и суфизма в Казанском ханстве было их неразрывное единство на самом высшем государственном уровне. Это является продолжением традиции предыдущего периода Золотой Орды, когда суфийские шейхи имели огромное влияние на политику, культуру, народное образование и религиозное строительство в ханстве.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью семантического анализа произведений поэтов эпохи Казанского ханства – Умми Камал, Мухаммадьяра, Кул-Шарифа, что подтверждается и другими исследователями [1, с.66]. Это необходимо для определения процессов исторического развития татарской исламской культуры и понимания степени преемственности традиций суфийской поэзии XI –XVI вв.
Методы исследования .
В работе используется апробированный автором в предыдущих статьях метод герменевтического анализа текстов суфийских поэтических про- изведений на основе классификации символических образов по двум группам – общеисламские и суфийские эзотерические. Целью этого исследования является – выявление суфийских символов в поэзии эпохи Казанского ханства. Пользуясь выражением В.М. Приваловой, мы хотим провести «процессы раскодировки» артефактов средневековой татарской литературы, чтобы увидеть – что было аккумулировано и достигнуто культурой в этот исторический период [15, с.107-108]. Учитывая тот факт, что влияние тариката Ясавийа на общую культуру татар достаточно четко прослеживается во времена Казанского ханства, мы будем сравнивать при анализе образы и символы поэзии этого периода с аналогичными в «Хикметах» А.Ясави [21], которые можно считать основным источником по суфийской образности вышеназванного тариката.
История вопроса .
Суфийские образы в татарской средневековой литературе и поэзии исследуются чаще всего в философско-культурологическом, филологическом, общеисламском аспектах. Эзотерические символы суфизма в татарской поэзии недостаточно полно интерпретированы по разным причинам. Одна из них – объективная непопулярность темы в XX веке в отечественной науке, и отсутствие методологической базы научного анализа исламской суфийской культуры в XX-XXIвв. Понимание татарской суфийской поэзии средневековья как части мировой арабо-мусульманской культуры и связанная с этим общность образной системы все еще не стали поводом для обширных исследований. Имеющиеся работы не связывают свой анализ со спецификой конкретных суфийских тарика-тов, распространенных на территории Казанского ханства, лишь в общих чертах сравниваются мировые примеры суфийской литературы и поэзии с творчеством татарских поэтов [20].
А.В. Аксанов подчеркивает, что в это время шейхами чаще всего называют суфийских наставников – муршидов [1, с.64], что показывает укорененность канонического ислама и традиций суфизма в общую культуру татар. Историк татарской духовной средневековой культуры Г. М. Давлетшин особо выделяет роль художественной литера-
СЕРВИС plus 2023 Том 17 №4 15
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
туры как самого результативного средства популяризации религиозной науки [3, с.85]. Поэтому анализ образов и символов в поэзии этого периода позволит наиболее полно представить в будущем картину татарской культуры.
Наиболее интересными для данного исследования являются работы Д.Ф. Загидуллиной о суфийской поэзии Казанского ханства. Терминологически она опирается на общемировые суфийские термины и понятия – тарикат, макам, хэл, зикр, ма-грифат и др. [5-6].
Среди исторических источников по исламской культуре этого периода мы использовали работу З.В.Тогана «Islamic Culture in the Khanate of Kazan: A Report Sent from Kazan in 1550 during the Reign of the Lawgiver» (Исламская культура в Казанском ханстве: отчет, присланный из Казани в 1550 г. в период правления Сулеймана Законодателя) [23]. В этом труде упоминается Шариф Хаджитархани, автор исторического сочинения «Зафернаме-и вилайет-и Казан». Общие сведения по истории тюрко-татарской литературы средних веков содержатся в исследованиях З.Р. Абульха-новой [22]. Использование суфийских литературных сочинений эпохи Казанского ханства в качестве учебных пособий для народного образования татар описано в статье А.А. Галиакберовой [24]. Она делает важный вывод о том, что в этот период происходит наследование традиций народного образования эпохи Волжской Булгарии. Суфийские шейхи и известные поэты Кул Шариф, Мухамме-дьяр принимали активное участие в просвещении народа, строили мечети и медресе, которые были базовыми учреждениями для духовного образования. «Самое большое медресе было построено при мечети, где имамом был Кол Шариф» [24, с.3334.].
Результаты исследования. Поэт Махмуд Хаджи угылы Мухаммедьяр (1497-1549) родился в семье потомственных татарских шейхов линии Ясавийа, и «являвшегося, по мнению Р.М. Амирханова, членом суфийского ордена» [5, c.211]. Он был автором поэм «Тухфаи Мардан» («Дар мужам», 1539г.) и «Нуры содур» («Свет сердец», 1542г.), поэтического послания «Насихат» («Наставление»). В «Нуры содур» Мухаммедьяр прямо подчеркивает традиционные связи с творчеством суфийских поэтов и литературных предшественников – А. Фирдоуси, Й. Баласагуни, И. Низами, А. Навои, А. Джами. Продолжая традиции средневековой литературы, Мухаммедьяр использует в своих поэмах сюжеты из восточных легенд, татарского фольклора, из поэм известных поэтов. О себе, как о суфии сам поэт пишет в поэме «Нуры содур» [16]. Филолог Э.Х. Кадирова в монографии «Поэмы Мухаммедьяра «Тухфа-и мардан» и «Нури содур» выделяет отдельную тематическую группу слов, посвященных Аллаху и религиозной терминологии, что также является традиционными образами суфийской поэзии [2, с.59].
Литературовед А. Х. Садекова пишет, что Мухаммедьяр в поэме «Нуры содур» использовал сюжет Хасана Басри (один из первых суфиев Басры VII века) также, как и А. Ясави в «Хикметах»; а в поэме «Тухфаи мардан» приводит притчу о дервише в духе татарской народной сказки «Безрукая» [16, с.90].
Анализ доступных отрывков из сочинений Мухаммедьяра показывает наличие в них традиционных суфийских символов, в том числе эзотерических. В поэме «Тухфаи мардан», в главе «Кунел белэн сойлэшу» («Разговор с душой») автор получает наставления от своей души (подстрочный перевод наш – Л.Б.):
«Ярмохэммэд, сэна бирмеш хак теле, – Бу фэлэк багстанынын былбылы.
(Ярмухамад, дан тебе божественный язык – это соловей в саду жизни) [14].
Символ «божественного языка» (хак теле) передан в традиции восточных поэтов через образ соловья. Также ему сопутствует символ, который встречается в выражении «язык птиц» («кошлар теле») – таинственный язык, доступный только посвященным шейхам и мудрецам. В рассказе Му-хаммедьяра своей «душе» о себе, он называет себя бедным суфием («фэкыйрь») [14], и это также традиция суфийских поэтов.
В главе «Уз хэле турында» («О своем душевном состоянии») упоминаются важные суфийские образы – Прямой путь духовного становления (Тугры юл), обязательное наличие шейха-наставника на этом Пути и бесконечность божественного
мира, в котором жизнь суфия есть лишь одно мгновенье (подстрочный перевод наш –Л.Б.):
«Жан кошыга мескин адэмдер кафэс,
Гакълына килгел, фэкыйрь, сэн бер нэфэс.
(«Несчастный человек есть клетка для птицы его души,
Вразуми, суфий, что ты лишь одно мгновенье») (…)
...Басмагыл юлыга рэхбэрсез кадэм, Башсыз юлы, узе булгай кол-гадэм.
(«Не вставай на Путь без наставника, Одинокий Путь приведет тебя к погибели») (…)
Рэхмэтен дэрьясыдин биргел олеш, Тугры юлга биргел (имди) хуш йореш... («Получишь частицу благословения, Прямой Путь сможешь хорошо пройти…») [14]. Излюбленная суфийская тема достижения мусульманином степени «Совершенного человека» («инсан камиль») также затрагивается в поэме «Тухфаи мардан» Мухаммедьяра. Главу «Угет-нэсыйхэт» («Жизненные наставления») Х.Миннегулов определяет как системный список качеств «инсан камиль», который соотносится с чертами правоверного мусульманина. В данном отрывке нет эзотерической суфийской трактовки «инсан камиль» в качестве символа божественного человека (андрогина), что было бы слишком сложно для чтения непосвященными [12, с.20].
В поэме Мухаммедьяра «Нуры содур» в главе «Гадел кыйлмак сузлэре...» указывается прямое назначение текста для слушания во время суфийских радений (зикр и сама`), во время которых читали отрывки из Корана, назидательные сочинения, интонировали мунаджаты (подстрочный перевод наш – Л.Б.):
«Эйтэем гадел фэзылыны рэван
Тынланыз аны, и пир-у жэван».
(«Расскажу вам о правдивости кратко, Слушайте и шейх-наставник, и молодежь») [14]. Шариф Хаджитархани, Мухаммад-Шариф Кул Шариф (ум.1552г., Казань) – сейид, ясавийский шейх, руководитель верующих Казани, мулла главной мечети Казанского Кремля. Многие исследователи предполагают, что Кул Шариф является автором исторического сочинения «Зафернаме-и ви-лайет-и Казан» (1550), написанного под именем
Шарифи Хаджитархани [10, с.72; 13, с.150; 23, с.966]. Д.Ф. Загидуллина называет Кул Шарифа продолжателем традиций суфийских шейхов Ясави и Бакыргани, популярных у тюркских народов, начиная с XII века [5, с. 209].
Суфийское стихотворение Кул Шарифа в жанре мунаджата «Башын кутэр гафлэтдин...» («Приподними голову над нерадивостью, повторяй зикр») посвящено напоминаниям божественного имени, и состоит из 7 бейтов с рефреном: «ху ти-гел» («повторяй имя Бога») как в популярной средневековой суфийской ясавийской книге «Бэда-вам», в которой такой же рефрен («ху тигел, бэдэ-вам» /«повторяй имя Бога непрерывно»). Другие суфийские образы также наполняют этот текст – «ху кошы» («божья птица»), «Хак зекрени» («напоминание Истины»). Для анализа нами были изучены два варианта текста – оригинал и перевод на современный татарский язык [11;19], образы и символы мы представляем по оригинальному тексту [11]. Д.Ф. Загидуллина жанрово обозначает это сочинение как зикр, и мы полностью с ней согласны, уточняя, что возможно это был суфийский мунаджат, исполнявшийся во время зикра (суфийский ритуал) [6, с.183].
Учитывая, что числовая символика – очень важный элемент исламского эзотеризма, в этом стихотворении число 8 имеет особое значение: рефрен «Ху тигел» повторяется 8 раз по традиции исламских образов (как 8 ангелов с 8 сторон света держат трон Аллаха), как бы напоминая, что все мироздание вращается вокруг божественного Престола. Число 7 также представлено здесь образно аллегорически («семь материков минуют, после этого взлетят на небо»). В эзотерическом плане у суфиев «семь» имеет много значений, одно из них – «лестница на небо» [11] (подстрочный перевод наш – Л.Б.).
Башын кутэр гафлэтдин, гафил торма, ху тигел, (Приподними голову над нерадивостью, повторяй зикр)
Кузен ачкыл уйкудин, гафил торма, ху тигел.
(Открой глаза от сна, не будь невежей – повторяй «Ху»)
Ху-ху тийу ху кошы, акар кузендин йэше,
(«Ху-ху поет птица Аллаха», проливая слезы из глаз)
СЕРВИС plus 2023 Том 17 №4 17
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Койеп эче хэм тышы, гафил торма, ху тигел.
(Произноси вслух и внутри себя, не будь невежей – повторяй «Ху»)
Гашыйклары очарлар, гарше шахига кунарлар
(влюбленные в Аллаха взлетят до престола Аллаха)
ху дип дидар куларлар, гафил торма, ху тигел
(ожидая встречи с Аллахом «Ху» говорят, не будь невежей, повторяй «Ху»).
Йите экълим гизэрлэр, андин куккэ агарлар,
(семь материков минуют, после этого взлетят на небо)
Бер кадэмдэ нитэрлэр, гафил торма, ху тигел.
(в один взмах долетят туда, не будь невежей, повторяй «Ху»)
Ху бэхригэ чумарлар, гаувас булып батарлар,
(погрузятся в божественное море зикра, станут ныряльщиками)
Ху доррлэрин тирэрлэр, гафил йормэ, ху тигел.
(станут собирать жемчужины божественного знания, не будь невежей, повторяй «Ху»).
Дэргях капуг очыкдыр, рэхмэтлэри анукдыр,
(Двери рая откроются, благодарность будет известна им)
Кузен ачып бакып тор, гафил йормэ, ху тигел.
(Глаза открыв смотри, не будь невежей – повторяй «Ху»)
И Кол Шэриф, тынмагыл, тонлэр йатып ой-магыл,
(И, Кул Шариф, не успокаивайся ты, не спи по ночам)
Хак зекрени куймагыл, гафил йормэ, ху тигел
(Не останавливайся повторять по ночам зикр Аллаху, не будь невежей, повторяй «Ху») [11].
Один из основных сакральных звуковых символов зикра – это слог «Ху», пришедший от зикра Ясавийа, мы видим его в бейтах Кул Шарифа спустя 300 лет. Сравним с хикметом №68 А.Ясави:
«Мечта влюбленных днем и ночью "ху".
О, раб божий Ахмед, сам тоже душу отдал за "ху".
Поэтому я хочу, не зная сна, на рассвете терпеливо молиться» [21, с. 83].
Этот же совет находим в хикмете №46 А.Ясави:
«Друзья, никогда не уставайте говорить: "Аллах".
Имя Аллаха – ключ к душе и сердцу, друзья.
Если произнести "Астапыралла – уастапи-ралла",
С криком умчатся шайтаны и нечисть, друзья» [21, с. 62].
Непрерывный ночной зикр – это традиционное для многих суфийских организаций радение, состоявшее из многочисленных повторов определенных у каждого тарикатат молитвенных формул по 33, 99, 100 раз. Кул Шариф себе и ученикам советует постоянно практиковать ночной зикр для достижения единения с Аллахом. Также в радения зикра входили чтение отрывков из Корана, напевное чтение хикметов Ясави, суфийских стихов и мунаджатов.
Сравним текст хикмета № 31 А.Ясави, где также говорится о непрестанных молитвах дервишей:
«Увидев достойных людей, изрекают слова необычные дервиши.
Всевышнему неустанно молятся, восславляя его,
Нищета Вас не смущает, дервиши» [21, с.67].
Таким образом, это стихотворение Кул Шарифа богато на суфийские традиционные символы – птицы Аллаха, жемчуг божественных знаний, лестница на небо, райские врата, сердце, трон Аллаха («гарше шахи») здесь трактуется как символ девятого неба, престол Аллаха, поддерживаемый ветвями традиционного символа Древа Жизни (Мирового Древа).
Исследователь татарской средневековой поэзии Д.Ф. Загидуллина предполагает, что это стихотворение Кул Шарифа было написано специально для суфийских радений, так как имеет ритм зикра в размере 14/14 (по 14 слогов в каждой строчке). Точнее считать по 7+7 слогов в каждой строчке, как подъем по символической лестнице к престолу Аллаха [5, с.210].
Кул Шариф отдает дань почтения основателю тариката Ясавийа в кысса «Хобби Хужа» («Кыйссаи Хобби Хужа»), так как сам является его последователем. Начинается повествование да-стана (автор сам так называет кыссу в некоторых
строках) традиционно с «басмалы», фразы поклонения единому Богу мусульман, восхваления Пророку и описания картины создания мира (подстрочный перевод – Л.Б.):
Бисмилла дип башлыймын, исемен белэн, йа Алла!
(Я начинаю с Бисмиллях, с именем твоим, о Аллах!)
Моселманлык башыдыр: «Алладан башка Илах юк».
(Основа мусульманства такая: «Нет бога кроме Аллаха!»)
Соекле итеп яраттын Мохэммэд пэйгамбэр-нен нурын,
(Возлюбил ты и создал свет Пророка Мухаммада)
Аннан алып яраттын бу галэмнен барысын.
(После этого возлюбил и создал вселенную) Унсигез мен галэмне, барысын да яраттын, (18000 циклов человеческих миров, все Ты создал)
Айны-конне яратып, анын белэн яр иттен.
(Луну и солнце создал, согласовал их между собой)
Кук тэхетен, язмыш тактасын, жэннэт хезмэтчелэрен яраттын,
(Небесный престол, скрижали судьбы, слуг рая создал»)
Ожмах-тэмугны – барчасын кеше очен яраттын.
(Рай и ад – все сотворил для людей)
Аннан сон яраттын ин элек Адэм галэйхи-эс-сэламне,
(После этого сотворил ты Адама)
Анардан тудырып тараттын бу кешелэрнен барысын да.
(От него и созданы были потом все люди)
Бу доньядан куп утте пэйгамбэрлэр хэм эулиялэр,
(Много пророков и святых людей жило с тех пор)
Барчасынын да житэкчесе — Мохэммэд пэй-гамбэр.
(Руководителем всех их является Пророк Мухаммад)
Олугъ Сыр-Дэрьянын буенда туксан тугыз хэм тагын
(С берегов великой реки Сыр-Дарья 99 и ) Мен шэехнен куанычы — Хужа Эхмэд Ясэви (еще тысячи шейхов радость – Ходжа Ахмет Ясави).
Наполненный мусульманскими аллегориями сюжет кысса содержит важные для татарской исламской культуры имена – Хаким ата (Сулейман Бакыр-гани, ученик А.Ясави), легендарные пророки Хызыр, Ильяс, прекрасный Йусуф из поэмы поэта Кул Гали, традиционные общеисламские бинарные образы – луна-солнце, рай и ад. Среди суфийских эзотерических символов в кысса – числа 40, 99, зикр, «живая вода» («тереклек суы») и др. Учитывая большой объем данного дастана, требуется отдельный детальный герменевтический анализ текста для более полного выделения образов суфизма.
До нас дошли и другие суфийские стихотворения Кул Шарифа – это «Элхэмдулиллах раббил-галэмин...» (Хвала Аллаху – господу миров); «Ал-лага, Галэмнен хужасына, дан булсын...» (Да будет слава Аллаху – хозяину миров) [9]. В стихотворении «Монэжэттэ монлылык кирэк...» (Необходима печаль в мунаджат...) [9] дается наставление об особенностях жанра мунаджат, говорится о важности аскетизма, соблюдения поста, отречения от запретных благ для достижения божественных знаний.
В стихотворении «Хакыйкать чын гашыйклар юлына...» («В путь истинных влюбленных…») Кул Шариф пишет, что находится на одной из ступеней на Пути суфийского духовного совершенствования (всего четыре: шариат-тарикат-магрифат-хакикат) [5, с.213]. Выявляются основные суфийские образы этого сочинения Кул Шарифа, которые одновременно дают характеристику его собственной суфийской биографии: наличие учеников шакирдов, душевное состояние безумно влюбленного в Аллаха («дивана»), описание цепочки духовной преемственности суфийских шейхов (силсила Кул Шарифа). В стихотворении даны мистические состояния Кул Шарифа на ступени «магрифат»: «повиновение, растворение в любви к Аллаху» [5, с.213].
Суфийский термин «дивана» встречается во многих стихах Кул Шарифа, например (подстрочный перевод наш – Л.Б.):
«Хакыйкать чын гашыйклар,
Кергел юлга мэрданэ, Рахнамедер бу юлда
СЕРВИС plus 2023 Том 17 №4 19
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Шэйх Гаттар Дивана» [17, с.13-14].
(Мужчина, встань на Путь влюбленных в Истинное знание Аллаха, проводником на этом пути будет безумно влюбленный в Аллаха шейх Гат-тар). Возможно, Кул Шариф пишет о суфийском поэте XII века Ф. Аттаре.
Суфийский поэт Умми Камал (конец ХIV в. – 1475 г.) в разные годы жил в Крымском и Казанском ханствах. Две газели У. Камала – «Акар кузем яше...» («Льются слезы мои») и «...Кунды, кичде» («Погостил, умер») наполнены суфийскими поэтическими эпитетами и образами.
Первая газель написана в духе мунаджата, так как автор направляет свои мольбы Аллаху («Иляхи»), жалуясь на тяжелое состояние. Поэт называет себя «идущим прямым путем» (тугры юл), этот суфийский символ «пути», «дороги» используется в газели «Акар кузем яше...» для передачи образа духовного путешествия к Богу, который суфий проходит на протяжении всей жизни (подстрочный перевод наш – Л.Б.):
...Чо(н) тугры юл варымызым курэрлэр
(Видят они, что я иду по прямому пути) [8].
Газель «...Кунды, кичде» имеет символический рефрен «маятника вселенной», который касается всех людей и пророков без исключения – это фраза «погостил, умер» (кунды, кичде). Она напоминает, что все мы «гости в этом мире»; наиболее яркая фраза в конце газели показывает, что и «миры» Вселенной имеют цикл рождения и смерти (подстрочный перевод наш – Л.Б.):
«Бу йир узрэ ничэ хан кунды, кичде,
(Сколько на этой земле ханов погостило, умерло)
...Кани ул Адэм, Хаува, ки эувэл
Бу молкэ килде горъян, кунды, кичде.
(Или это Адам, Ева, которые пришли в это царство голыми, погостили, умерли) [8].
Эзотерическая числовая символика присутствует в этой газели в виде 17 бейтов и 18 повторов фразы «...кунды, кичде». При сведении до простых чисел образуется переход от 8 (17) к 9 (18), что традиционно трактуется как переход в вечность мирового круговорота (погостил/8, умер/9). Число 9 ассоциируется в исламе с формой круга, образом цикличности, повторности.
Суфийская литература эпохи Казанского ханства стала эталоном для татарских поэтов последующих веков, что отражается в общем суфийском словесно-образном аппарате [5, с.206]. Таким образом, традиционная линия татарской суфийской литературы продолжилась и в следующем периоде татарской истории. Исследователь татарского фольклора Кутдус Хуснуллин считает, что творчество У. Камал так же, как и поэтов Мухам-медъяра и Кул Шарифа пронизано идеями тари-ката Ясавийа и приводит многочисленные примеры татарских народных мунаджатов, созвучных суфийской поэзии и имеющих такие же точно символические формы [18, С.IX].
Выводы.
На основе анализа нескольких примеров суфийской поэзии эпохи Казанского ханства мы находим все те же символические образы, которые были в предыдущие периоды Золотой Орды и Волжской Булгарии. Условно группируем их на общеисламские и суфийско-эзотерические. По первой группе – это образы божественного престола, тари-кат, макам, рай и ад, луна и солнце, трон, Древо Жизни и др. По второй группе – это образы/символы магрифат, хэл, божественный язык, соловей, язык птиц, божья птица, жемчуг, лестница, райские врата, Прямой путь, совершенный человек, зикр, числовая символика (7, 8, 9, 40, 18000, 99 и др.). Условность деления объясняется тем, что все эти образы в контексте художественных литературных произведений могут быть наполнены сакральным эзотерическим смыслом, а в окружении других образов они приобретают иные значения. Поэзия эпохи Казанского ханства доказывает, что она является историческим продолжением традиций суфийской литературы А.Ясави, С.Бакыргани, Кул Гали и других авторов предшествующих периодов истории булгаро-татарской культуры.
Список литературы Символы суфийской культуры в татарской литературе периода XV-XVI вв
- Аксанов А. В. Ислам в Казанском ханстве: проблемы и перспективы исследования // Тюркологические исследования. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 63-70.
- Гайнутдинова Г. Р. К вопросу изучения старотатарских письменных памятников периода Казанского ханства // Минбар. Исламские исследования. – 2015. – Т. 8. – № 1. – С. 55-60.
- Давлетшин Г. М. О богословии и науке в Казанском ханстве // Средневековые тюрко-татарские государства. – 2009. – № 1. – С. 84-91.
- Дулат-Алеев В. Р. Текст национальной культуры: новоевропейская традиция в татарской музыке. – Казань: Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, 1999. – 245 с.
- Загидуллина Д. Ф. Картина мира и художественные особенности средневековой татарской суфийской поэзии // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2007. – Т. 149, № 2. – С. 206-218.
- Загидуллина Д. Ф. Художественные особенности суфийской поэзии периода Казанского ханства // Средневековые тюрко-татарские государства. – 2010. – № 2. – С. 181-185/
- Ибрагим Т. К. Татарская религиозно-философская мысль в общемусульманском контексте / Т. К. Ибрагим, Ф. М. Султанов, А. Н. Юзеев. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2002. – 238с.
- Камал, Омми. Шигырьлэр // Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: https://kitaphane.tatarstan.ru/file/kitaphane/File/%D3%A8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB.%20%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BB%D3%99%D1%80.pdf (дата обращения 15.05.2023).
- Кул Шариф. Жизнь жестока, но прекрасна... . – Казан: Татар. кит. нэшр., 1997. – 94 б.
- Кул Шариф и его время: Сборник статей на татарском и русском языках. – Казань: Татарское книжное изд-во, 2005. – 192 с.
- Кул Шэриф. Шигырьлэр // Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: https://kitaphane.tatarstan.ru/tat/teb_r.htm#%D0%9C (дата обращения 15.05.2023).
- Миннегулов Х.Ю. Вслушиваясь в голоса веков. – Казань: Магариф, 2003. – 335 с.
- Миннегулов Х. Ю. Татарская литература позднего Средневековья // Золотоордынское обозрение. – 2015. – № 1. – С. 146-158.
- Мохэммэдьяр. Тохфэи мэрдан. Нуры содур [Электронный ресурс]. – URL: https://tatar.org.ru/_educ/virt-gimn/books/9adabcyr/24.html (дата обращения 15.05.2023).
- Привалова В. М. Ритуалы культуры как процесс знаково-символической инициации сознания // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 104-114.
- Садекова А. Х. Фольклорные сюжеты в поэмах Мухаммедьяра // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – № 20(311). – С. 89-91.
- Урманчеев Ф.И. Татарская мифология. Том 2. – Казань: Татарское книжное издательство, 2011.
- Хоснуллин Котдус. Монэжэтлэр хэм бэетлэр: Койлэп укуга нигезлэнгэн жанрлар. – Казан: «Раннур» нэшрияты, 2001. – 724б.
- Шэриф Кол. Кузен ачкыл уйкудин [Электронный ресурс]. – URL: kitaphane.tatarstan.ru›eng/file/pub/pub_26831.doc (дата обращения 15.05.2023).
- Юсупов А. Ф. Суфизм в средневековой татарской культуре: роль, особенности и модели мира / А. Ф. Юсупов, Н. М. Юсупова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 5(16). – С. 219-222.
- Яссави Ходжа Ахмед. Хикметы / общ. ред. и предисл. М.X. Абусеитовой; излож. пер. на рус. яз. Н.Ж. Сагандыковой; коммент. З. Жандарбека. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 208 с.
- Abulhanova Z. R. et al. General Spirituality: The Turkish Lifestyle at the Tatar Literature of the Late 19th–Early 20th Centuries //Journal of Research in Applied Linguistics. – 2019. – Т. 10.: Proceedings of the 6th International Confer-ence on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia. – pp. 671-678.
- Binbaş E., Togan A. Islamic Culture in the Khanate of Kazan // Journal of the Economic and Social History of the Orient. – 2022. – Т. 2022. – №. 7. – pp. 961-1057.
- Galiakberova A. A., Mukhametshin A. G., Asratyan N. M. Religious and secular aspects in the history of Tatar national education // European Journal of Science and Theology. – 2020. – Т. 16. – №. 4. – pp. 27-41.