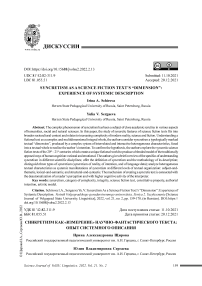Синкретизм как «измерение» научно-фантастического текста: опыт системного описания
Автор: Щирова Ирина Александровна, Сергаева Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследование феномена синкретизма встраивается авторами статьи в широкий современный социокультурный контекст и связывается с усложнением реальности, художественных форм и научных объектов. Исходя из понимания художественного текста как многомерного целостного образования, авторы видят в синкретизме одно из таких «измерений» - типологически маркированное текстовое свойство, реализуемое сложной системой взаимосвязей разнородных текстовых характеристик, органическое «слияние» которых в текстовое целое обусловлено объединяющим началом авторской интенции. Сформулированная гипотеза подтверждается анализом синкретичных научно-фантастических текстов XX-XXI вв., в которых силою воображения креативного субъекта и в уникальной художественной форме моделируется неразрывная связь традиционно противопоставляемых способов человеческого познания - рационального и эмоционально-образного. В статье кратко охарактеризована специфика осмысления синкретизма в разных научных дисциплинах; дано его определение, предложена методология его описания и выделены виды синкретизма (синкретизм реальности, интенции и языковой данности), отражающие специфику художественного моделирования; установлены разнородные характеристики, маркирующие системность проявлений синкретизма на разных уровнях организации научно-фантастического текста: предметно-тематическом, лексико-семантическом и структурно-синтаксическом. Механизм порождения синкретичного текста сопряжен с деавтоматизацией читательского восприятия и активизацией когнитивной деятельности интерпретатора.
Синкретизм, категория сложного, целостность, научно-фантастический текст, текстообразующее свойство, авторская интенция, художественная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/149140054
IDR: 149140054 | УДК: 81'42:82-311.9
Текст научной статьи Синкретизм как «измерение» научно-фантастического текста: опыт системного описания
DOI:
Актуальность исследования синкретизма как сложного явления коррелирует с усложнением современных реалий и интересом современной науки к проблеме сложного. Глобализация социальных процессов, новые формы коммуникации и рост объемов информации усложняют организацию мира, органично встраивая сложное в проблемное поле научного познания. Как составляющая глобального контекста наука пополняется сложными категориями и понятиями, использует комплексные и интегральные методы исследования, актуализирует целостность видения, утверждает методологический плюрализм. Изучение проявлений феномена сложности отвечает на вызовы времени.
Присущее современной культуре усложнение художественных форм заставляет согласиться с определением Ю.М. Лотманом искусства как «особой коммуникации», «особым образом организованного языка», «генератора языков особого типа», оказывающих человеку «незаменимую услугу» [Лотман, 1998, с. 15, 17]. Языки искусства обслуживают одну из самых сложных и не до конца ясных по механизму сторон человеческого знания [Лотман, 1998, c. 17]. Психологизация повествования и замещение жесткой событийной линии неопределен- ностью «внутренних событий»; перемещение авторской оценки в подтекст и перепоручение повествования ненадежному нарратору; сложные для разграничения виды «чужой речи»; постмодернистская антиосновность и размывание норм, «отказ от серьезности и всеобщий плюрализм» (фразеология В.П. Руднева: [Руднев, 1997, с. 221]), реализующий себя в иронии, пародии, пастише и стилизации; по словам И. Ильина, «калейдоскопически меняющиеся ракурсы действительности, в своем мелькании не дающие возможности познать ее сущность» (цит. по: [Руднев, 1997, с. 224]), полидискурсив-ность и поликодовость, – все эти способы художественной организации усложняют восприятие текста и расширяют спектр интерпретативных решений, предопределяя рост когнитивной активности адресата. Аналогичные компетенции требуются от имплицитного читателя синкретичных научно-фантастических текстов, выступающих предметом рассмотрения в этой статье.
Тезис о сложности и гетерогенности художественного текста, многомерности его организации и разнообразии его свойств, планов, областей и повествовательных инстанций, об иерархии смысловых уровней текста и сочетающихся в нем знаковых систем давно воспринимается как научная аксиоматика (более подробно см.: [Щирова, 2008; 2013]). Тек- стовый синкретизм, к проявлениям которого оправданно отнести и синкретизм текстотипа (ср. тексты психологического или авантюрного детектива, фэнтези, научной фантастики, киберпанка, литературно-критического эссе и пр.), вносит в текст «дополнительное измерение», маркирует интеграцию «инородных» элементов. Усложнение организации увеличивает трудность его восприятия.
Феномен синкретизма исследовался в разных областях научного знания. В философско-культурологической традиции описание нерасчлененности первобытного мышления и первобытной культуры связывается с именами Э.Б. Тайлора, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, Э. Дюркгейма [Тайлор, 1989; Леви-Брюль, 1994; Леви-Стросс, 1999; Дюркгейм, 1995]. Синкретизм первобытного сознания в мифологии разрабатывался в фундаментальных трудах М. Элиаде, А.Ф. Лосева, Е.М. Ме-летинского, Б. Малиновского, Дж. Кэмпбелла [Элиаде, 1996; Лосев, 1994; Мелетинский, 2000; Малиновский, 1998; Кэмпбелл, 2004]. Идеи синкретизма обнаруживаются в трудах о «первозданном слове», из которого вырастает миф [Афанасьев, 1995], в выводах В.М. Жирмунского о разрушении границ между жанровыми канонами и видами искусства [Жирмунский, 1977], в концепции взаимопро-никаемости литературных родов и видов [Белинский, 2014]. В исследованиях средневекового сознания и словесности также отмечаются проявления синкретизма (ср., например: [Аверинцев, 1997; Бахтин, 1990; Хейзинга, 2011]). Отдельные виды духовной деятельности воспринимаются в это время как «жизнь в ее нерасторжимом единстве», «интегрированная цивилизация» [Эко, 2004, с. 34]. Так, М.М. Бахтин обнаруживает начало средневековой драматургии в синтезе серьезной и смеховой традиций [Бахтин,1990].
Спектр лингвистических исследований синкретизма также достаточно широк. Вопросы сложных синкретичных образований и явления переходности в языке и речи разрабатывались В.В. Виноградовым, О.С. Ахмановой, В.В. Бабайцевой [Виноградов, 2001; Ахманова, 1969; Бабайцева, 2017], синкретизм рассматривался как семантическая, лингвомыслительная и исследовательская категории [Колесов, 1991; Пименова, 2011; Береснева,
2017], а ранний синкретизм – как универсальное онтологическое свойство [Чеснокова, 1988]. Недискретные, диффузные зоны синкретизма выделялись в морфологии и синтаксисе разных языков, в сфере частей речи и членов предложения (см., например: [Чареков, 2009; Высоцкая, 2006; Meiser, 1992; Baerman, 2007; Luraghi, 2001]). Лингвисты рассматривали понятия, близкие синкретизму по смысловому содержанию, например, сложные синтетические произведения, созданные на базе ранее существовавших текстов и на стыке жанров (ср. «роман-притча», «сказка-притча» в творчестве Б. Брехта, Дж. Оруэлла, У. Фолкнера, Ж.-П. Сартра).
Представленная история исследования синкретизма, бесспорно, не исчерпывает всего многообразия подходов к этому сложному феномену. Выделяя наиболее известные направления его изучения, авторы стремились показать некоторые их взаимосвязи, увидеть синкретизм как целостность, встроив его в глобальный культурный контекст.
Важной составляющей научного знания сегодня признается его контекстуализация. Например, Е.Ю. Ильинова и Л.А. Кочетова обоснованно указывают на недостаточность рассмотрения языковых и структурных характеристик для получения адекватного представления о дискурсе в жанровом аспекте, которое требует и прагматической перспективы [Ilyinova, Kochetova, 2016]. Общая логика исследования синкретизма демонстрирует осмысления механизмов его порождения, форм проявления и функций на разных этапах социокультурного развития. Изучение синкретичных научно-фантастических текстов XX–XXI вв. в настоящей работе связывается с усложнением реальности, художественных форм и научных проблем, характеризующих современную эпоху как эпоху сложного. Под синкретизмом текста при этом понимается имеющее системный характер, органическое сочетание в сложном, иерархически организованном текстовом целом разнородных (разноуровневых, разноплановых и т. д.) дифференциальных характеристик: семантико-структурных, функционально-коммуникативных, когнитивно-дискурсивных и пр.
Синкретичный текстотип научной фантастики сочетает в себе дифференциальные характеристики двух типов текста: научного и художественного. Объективируемые в них разные способы познания – рациональное и эмоциональное (художественно-образное) – неразрывно объединяются в смысловой цельности текста единой авторской интенцией. Каждый из взаимосвязанных текстотипов вместе с тем обладает качественной определенностью, то есть отличается от иного текстотипа конститутивными характеристиками.
Целью исследования выступает системное описание синкретичного текста как целостности, а синкретизма – как текстообразующего и типологически маркированного его свойства.
Материал и методы
Методология исследования учитывает интегративный характер современного научного познания. Движение к адекватному осмыслению сложного синкретичного текста обеспечивается целостным подходом, основанным на понимании текста как ингерентно-го компонента литературной коммуникации. Отражая стремление к целому в познании мира, коммуникативно-когнитивные субъекты (автор, читатель, фикциональный субъект), порождаемый и воспринимаемый синкретичный текст, а также экстралингвистический контекст трактуются как взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы в составе целостного единства и рассматриваются в многообразии формируемых ими неразрывных связей. В работе используются метод моделирования, лингвостилистический и контекстуальный анализ, сравнительно-сопоставительный метод и метод научной рефлексии.
Сложность художественного текста как иерархически организованного смыслового целого и «единицы высшего ранга» [Тураева, 2021, с. 23], усложнение текстовой организации в синкретичном текстотипе, а также продуктивность использования целостных (холистических) подходов в изучении сложных феноменов ориентирует на рассмотрение синкретичного текста научной фантастики как сложной системы взаимосвязей и взаимодействий разнородных характеристик, которые: а) репрезентируются на разных уровнях и в разных областях организации текста (ср. уров- ни реальной коммуникации; авторской интенции и изображенной коммуникации или области прагматики, интенциональной семантики и семантики / содержания, в терминологии Ю.И. Левина [Левин, 1998]); б) актуализируются на разных этапах существования текста (порождение – восприятие – понимание – интерпретация) и предполагают разные ракурсы рассмотрения (ср. текст как: сложное, многомерное антропоцентрическое образование; иерархически организованное смысловое целое; индивидуально-авторский вариант концептуализации мира; художественная модель; неотъемлемый компонент коммуникативной ситуации; результат совместной когнитивной деятельности когнитивных субъектов-соавторов, языковая данность и пр.).
Материалом исследования послужили научно-фантастические короткие рассказы, написанные как признанными классиками этого жанра, так и менее известными авторами (R. Bradbury, A. Asimov, A. Clarke, T. Chaing, A. Feldman, A. Bloch). Выбор малообъемной прозы обусловлен ее информативной насыщенностью и компрессией языкового материала. Обозримость текстового пространства короткого рассказа повышает степень точности выводов о прослеживаемых закономерностях.
Результаты и обсуждение
Синкретизм науки и искусства в образном «инобытии» художественной модели
Являясь спекулятивной литературой, сложные научно-фантастические тексты основываются на фантастических допущениях и совмещают объективную реальность с субъективно прогнозируемыми гипотетическими событиями. Определение уровня их реальности осложняется и спецификой художественного текста: любая его «реальность» оказывается фикцией.
Объектом моделирования в текстах научной фантастики выступают наука и искусство – ключевые сферы познавательной деятельности. Основа их традиционного противопоставления формируется контрастом между сущностными характеристиками науки – ее обращенностью к ratio, обезличенностью, установкой на создание объективных и системно организованных знаний и отличительными характеристиками искусства, которому присущи обращенность к emotio человека и открытая субъективность, декларируемая в эстетически выразительных художественных формах. На современном этапе социокультурного развития эти традиционные контрасты, однако, не всегда проявляются со всей очевидностью: наука вступает в диалог с иными способами познания, демонстрирует множественные междисциплинарные связи, что воспринимается как объективная закономерность. Усложнение реальности и научных объектов, антропоориентированность науки и субъективизация научной истины ставят под сомнение возможность решения сложных задач усилиями одной научной дисциплины. Поиск «точек пересечения» между явлениями, синтез знания и проблемно-ориентированный характер возвращают науку к идее целостного мышления. Актуально звучат слова В.И. Вернадского: «Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно, поскольку «эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собой и могут быть разделены только в воображении» [Вернадский, 1988, с. 58].
Синкретичный текст как целостность: синкретизм реальности, интенции и языковой данности
Обратимся к эмпирическому материалу и проследим механизмы реализации синкретизма в тексте научной фантастики, исходя из того, что взаимопроникновение и взаимодействие его дифференциальных характеристик, обусловлены смысловой целостностью текста. Обратим особое внимание на слияние традиционно несочетаемого на разных уровнях и в разных планах текста. Для упорядочивания характеристик сравниваемых сущностей разграничим в ходе анализа три вида синкретизма – синкретизм реальности, синкретизм авторской интенции и синкретизм языковой данности. Выделенные типы синкретизма, характеризующие объект моделирования;
модель как гипотетическое построение и объективирующую ее языковую данность прослеживаются на разных уровнях и в разных областях организации научно-фантастического текста. При этом в синкретичном текстотипе «научно-фантастический текст» характеристики искусства ингерентно присущи художественному тексту, интегрирующему в себя элементы научного текста, а характеристики науки – научному тексту, интегрируемому в текст художественный. Синкретичный научно-фантастический текст, как следствие, продемонстрирует органическое слияние разнородных характеристик.
Синкретизм реальности в научно-фантастическом тексте закономерно включает характеристики науки в число реализующих его дифференциальных характеристик. Отличительной особенностью современной научной реальности являются интеграционные процессы и частный случай их проявления – междисциплинарность. Художественно-трансформированная реальность научно-фантастического текста, воспроизводя характеристики объекта моделирования, отсылает адресата к различным культурным смыслам и аспектам научной деятельности, фиксирует проявления междисциплинарности. К такого рода проявлениям относится взаимодействие:
-
а) информационных технологий, робототехники и религии (Clarke A. “The Nine Billion Names of God”);
-
б) биологии и медицины, философских и религиозных представлений (Chiang T. “Exhalation”);
-
в) археологии, анатомии и антропологии (Bloch A. “Men are Different”).
Переплетение «проявлений жизни» в анализируемой литературе не ограничивается сочетанием дифференциальных характеристик в синкретичной картине мира текста. Предметы обсуждения фикциональных субъектов, например, спасение вселенной от всепоглощающей энтропии (Asimov A. “The Last Question”) или непредсказуемое во времени влияние незначительного на систему – так называемый «эффект бабочки» (Bradbury R. “A Sound of Thunder”) отображают интересы реального социума. Актуальность научной проблематики повышает эффективность воздействия текста на картину мира реципиента, программи- рует его когнитивную активность, предопределяет успешность «вчувствования» в художественный текст.
Метаязык науки традиционно используется для передачи фактуальной, концептуальной и гипотетической научной информации, нейтральной по своей оценочной направленности; ассоциируется с научной деятельностью и ее атрибутами: предметом научных исследований, отраслями научного знания, научными дисциплинами и институтами, научными специальностями и пр. В проанализированных текстах метаязык науки был, в частности, представлен номинациями:
-
– фактов, предметов, процессов и явлений из сферы науки – robots , relays , circuits , interstellar travel , uranium , hyperspace , Solar station ;
-
– отраслей наук и представляющих их ученых – scientist , archeologist , historian , researcher , mathematician , psychiatrist ;
-
– гипотез, концепций, теорий – advocates of the inscription hypothesis , the problem of entropy , Ilinski technique и пр.
Художественный текст – уникальная смысловая целостность, все составляющие которой передают единый глубинный смысл. Реализуя интенцию автора текста, интегрируемые в него «инородные» элементы научного текста становятся неотъемлемой составляющей художественного текстового целого. Так, на уровне сюжетной линии создание верифицируемого научного знания перемещается в сферу гипотетической реальности: сафари оказывается путешествием во времени ( Time Safari ) и охотой на динозавров: All you got to worry about is – “Shooting my dinosaur,” (R.B.); ученый-археолог, проводящий эксперимент над человеком, – роботом: I’m an archaeologist, and Men are my business (A.B.); математики – представителями инопланетной расы: the invaders from the Dog-star Siriuss were the greatest mathematicians in the System (A.F.), а привычный современному поколению компьютер – суперкомпьютером, способным анализировать сложнейшие проблемы человечества: supercomputer Multivac used to analyze human problems and provide the most effective solution (A.A.).
В мире вымышленной реальности элементы научной деятельности обретают не свойственные им семантические характеристики и функции. Например, в рассказе «Exhalation» (T.Ch.) биолого-медицинский термин lungs, номинирующий гипотетическую реалию вымышленного будущего и составляющий основу семантического ряда, получает новые смысловые наслоения и комбинаторные свойства: легкие становятся механическим контейнером для заправки воздуха и предметом обмена (a replacement lung, to keep spare sets of full lungs, emptied lungs, filling stations for lungs и т. п.). Согласно авторской интенции, сочетания с ключевым словом lungs не только обозначают технические детали эксперимента персонажа-киборга, но и выстраивают развернутую концептуальную метафору «дыхание = жизнь», то есть нечто живое и естественное, наполняющее жизнью Вселенную и противостоящее неодушевленному механическому. Образ поддерживается метафорическими выражениями с семантически сходными лексемами breath, exhalation (the universe began as an enormous breath (здесь и далее выделено нами. – И. Щ., Ю. С.) being held, a universe’s exhalation), превращается в лейтмотив, появляется в сильных позициях заглавия («Exhalation») и завершающих абзацах. Значение существительного lung – ‘eiher of the two organs in the chest with which people and some animals breathe’ [Cambridge Dictionary] – в масштабах целостного текста пополняется новыми семантическими нюансами и получает символический смысл жизненного начала. Как и чудотворное божественное дыхание, оно не имеет временных границ: I hope that you were motivated by a desire for knowledge, a yearning to see what can arise from a universe’s exhalation. Because even if a universe’s lifespan is calculable, the variety of life that is generated within it is not (T.Ch.).
Синкретизм интенции в научно-фантастическом тексте подразумевает включение в художественную модель элементов с разнородными характеристиками, органически сочетающимися в силу общей направленности на реализацию авторской интенции и передачу глубинного текстового смысла. Смысл этот реализуется в форме, деавтоматизирующей читательское восприятие. Достоверная, интеллективная и точная научная информация, традиционно апеллирующая к ratio человека, превращается в составляющую фикционального мира, моделируемого в сознании литературных коммуникантов. Обретая новые образные формы, она используется для трансляции не научной истины, а художественной правды.
Так, в рассказе о путешествии во времени на сафари в мезозойскую эру «A Sound of Thunder» (R.B.) в уникальной эстетической форме объективируется неравнодушное, бережное отношение к природе и истории человечества. Страстная речь протагониста – персонажа Тревиса содержит «пучок» стилистических приемов: градацию, синтаксический параллелизм, усиленный повторами, в том числе анафорическими. Становясь неотъемлемой частью художественного образа, фак-туальная информация (цифры, даты, названия реальных животных), обретает форму эмотив-но заряженного манифеста, контрастирует с безразличием к судьбе планеты антагониста Тревиса – охотника Экельса, маркирует авторское мировидение:
“And all the families of the families of the families of that one mouse! With a stamp of your foot, you annihilate first one, then a dozen, then a thousand, a million, a billion possible mice!”
“So they’re dead,” said Eckels. “ So what ?”
“ So what ?” Travis snorted quietly. “Well, what about the foxes that’ll need those mice to survive? For want of ten mice, a fox dies. For want of ten foxes a lion starves. For want of a lion, all manner of insects, vultures, infinite billions of life forms are thrown into chaos and destruction” (R.B.).
Синкретизм языковой данности текста научной фантастики объективирует синкретизм художественной модели, воспроизводящей синкретизм реальности, и реализуется в дифференциальных характеристиках науки и искусства, неразрывно связанных авторской интенцией. Рациональный способ познания (научная сфера деятельности) моделируется с помощью научной терминологии (calcium compound, microscope, periscope); топонимов и антропонимов, совпадающих с реальными или имитирующих таковые (planet called Earth, Tibet, Texas, Grand Canyon, President Keith); точных цифр и дат (A.D. 2055. A.D. 2019. 1999! 1957! Gone!). Языковое модели- рование чувственно-образного способа познания (творческой деятельности) осуществляется с помощью изобразительных и выразительных средств, типичных для художественного текста как произведения искусства – перцептуальных образов и тропов: Sounds like music and sounds like flying tents filled the sky, and those were pterodactyls soaring with cavernous gray wings, gigantic bats of delirium and night fever (R.B.); эмотивной и оценочной лексики: Was there any limit to the follies of mankind? monstrous giant (A.C.); экспрессивного синтаксиса: All the energy we could ever use, forever and forever and forever (A.A.) и пр. Фантастические основания научно-фантастического текста прогнозируют наличие в нем многообразных элементов вымышленной реальности. Так, в рассказе «The Mathematicians» (A.F.) фантастические образы пришельцев моделируются с помощью:
-
а) вымышленных имен ( Zizzo , Zizza , Zalibar );
-
б) вымышленного языка, носителями которого они выступают:
– “Papa, what sort of language did these Starbeings talk?”
– “A very simple language, but the humans were never able to master it. So, the invaders, being so much smarter, mastered all the languages of the globe” (A.F.);
-
в) необычной внешности:
– “Wasn’t there any difference at all between the Star-beings and the humans, papa?”
– “There was. The newcomers, each and all, had a pair of wings covered with green feathers growing from their shoulders, and long, purple tails” (A.F.).
Необычный для восприятия научно-фантастический мир также конструируется и с помощью концептуальной интеграции. В процитированном рассказе «The Mathematicians» она формирует основу бленда An-vils , раскрывающего двойственную сущность пришельцев-математиков: наполовину ангелов и наполовину демонов ( Half angels , half devils ) .
Согласно авторской интенции, неоднородность образа пришельцев-математиков, погрузившихся в мир ранее несвойственных для них человеческих эмоций, обеспечивается синкретичной семантикой глагола to multiply .
Глагол реализует два значения – математического действия умножения и воспроизведения потомства:
– “And what happened to Zizzo and Zizza, papa?”
– Well, like all the An-vils, they were great mathematicians. So, they multiplied ” (A.F.).
Комический эффект каламбура на уровне композиции дополняется неожиданной развязкой. Портретная художественная деталь (наличие крыльев) деавтоматизируя восприятие текста, имплицирует связь прошлого и настоящего: отец и дочь оказываются потомками давно покинувших Землю пришельцев:
– “Oh, papa,” laughed Zoe, flapping her wings excitedly, “that was a very nice story!” (A.F.).
Таким образом, заглавие рассказа «Mathematicians» пополняется новыми смыслами, органически встраиваясь в текстовое целое.
Бесспорно, семантика, формы и функции синкретичного научно-фантастического текста сложнее, чем они представлены в статье, а лежащие в его основе фантастические допущения, как и уходящие в мифологию корни синкретизма, расширяют круг культурных смыслов, которые еще могут быть подвергнуты анализу. Перспективной представляется и детализация взаимосвязей, формирующих сложный анализируемый текстотип, и разработка его когнитивных механизмов.
Выводы
-
1. Предложенное понимание синкретизма как комплексного феномена обусловлено усложнением реалий мира, научных объектов и художественных форм, адекватное описание которых сегодня требует холистических и целостных подходов. Данные концептуальнометодологические ориентиры рассматривались как релевантные при исследовании стилевого и текстового синкретизма, синкретизма научно-фантастического текстотипа, усложняющего структуру и семантику текста, и художественного текста как иерархически организованного смыслового целого.
-
2. Синкретизм научно-фантастического текста оправданно трактовать как конститутивное типологически отмеченное текстовое свойство, органическое сочетание взаимосвязанных и взаимодействующих дифференциальных (разнородных) текстовых характеристик, реализующихся в разных областях, планах, уровнях и на разных этапах «жизни» текста. Системные проявления дифференциальных характеристик объединяются авторской интенцией синкретичного научно-фантастического текста в иерархически организованную смысловую целостность, обретают взаимосвязь и взаимообусловленность.
-
3. Разнородность характеристик синкретичного текстотипа деавтоматизирует восприятие текста читателем, активизируя его когнитивную деятельность по актуализации глубинного текстового смысла.
-
4. Синкретизм научно-фантастического текста воспроизводит синкретизм реальности – неразрывную связь науки и искусства как традиционно противопоставляемых друг другу сфер жизнедеятельности человека, репрезентируется в художественной модели на гипотетическом уровне авторской интенции (синкретизм интенции) и объективируется языковыми средствами (синкретизм языковой данности).
-
5. Взаимосвязи и взаимодействия дифференциальных характеристик в целостной системе синкретичного научно-фантастического текста реализуют единство его многообразия в двух направлениях. Элементы научного текста, интегрируемые в художественный текст, реализуют авторскую интенцию на конструирование смыслового целого в форме образного инобытия; становясь его ингерентной составляющей, они актуализируют качественно новые смысловые приращения и обретают новую функциональную направленность. Художественный текст, интегрируя элементы научного текста как текста иной качественной определенности, обретает текстовое свойство синкретизма и новый статус синкретичного текстотипа.
Список литературы Синкретизм как «измерение» научно-фантастического текста: опыт системного описания
- Аверинцев С. С., 1997. Поэтика ранневизантийской литературы. М. : Coda. 343 с.
- Афанасьев А. Н., 1995. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. Т. 1. М. : Соврем. писатель. 257 с.
- Ахманова О. С., 1969. Лингвистическое значение и его разновидности // Проблема значения в лингвистике и логике. М. : Сов. Россия. С. 12-17.
- Бабайцева В. В., 2017. Система членов предложения в современном русском языке. М. : Флинта. 496 с.
- Бахтин М. М., 1990. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. : Худож. лит. 543 с.
- Белинский В. Г., 2014. Разделение поэзии на роды и виды. М. : Директ-Медиа. 99 с. URL: https:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37234 (дата обращения: 27.05.2021).
- Береснева В. А., 2017. Лингвистический синкретизм: опыт категориального изучения проблемы // Вопросы когнитивной лингвистики. №№ 1 (50). С. 118-122. DOI: 10.20916/18123228-2017-1-118-122.
- Вернадский В. И., 1988. О научном мировоззрении // Труды по всеобщей истории науки. М. : Наука. С. 42-79.
- Виноградов В. В., 2001. Русский язык: грамматическое учение о слове. М. : Рус. яз. 719 с.
- Высоцкая И. В., 2006. Синкретизм в системе частей речи современного русского языка. М. : Моск. пед. гос. ун-т. 304 с.
- Дюркгейм Э., 1995. Социология. М. : Канон. 352 с.
- Жирмунский В. М., 1977. О поэзии классической и романтической // Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л. : Наука. С. 134-138.
- Колесов В. В., 1991. Семантический синкретизм как категория языка // Вестник Ленинградского государственного университета. Серия 2. Вып. 2, №> 9. С. 40-49.
- Кэмпбелл Дж., 2004. Мифический образ. М. : АСТ. 688 с.
- Леви-Брюль Л., 1994. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М. : Педагогика-Пресс. 608 с.
- Леви-Строс К., 1999. Первобытное мышление. М. : ТЕРРА-Книжный клуб. 392 с.
- Левин Ю. И., 1998. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М. : Яз. рус. культуры. 824 с.
- Лосев А. Ф., 1994. Миф. Число. Сущность. М. : Мысль. 920 с.
- Лотман Ю. М., 1998. Об искусстве. СПб. : Искусство-СПБ. 704 с.
- Малиновский Б., 1998. Магия, наука и религия. М. : АСТ. 304 с.
- Мелетинский Е. М., 2000. Поэтика мифа. М. : Наука. 407 с.
- Пименова М. В., 2011. Лексико-семантический синкретизм как проявление формально-содержательной языковой асимметрии // Вопросы языкознания. № 3. С. 19-48.
- Руднев В. П., 1997. Постмодернизм // Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М. : Аграф. 384 с.
- Тайлор Э. Б., 1989. Первобытная культура. М. : Политиздат. 573 с.
- Тураева З. Я., 2021. Текст: Структура и семантика М. : URSS. 136 с.
- Хейзинга Й., 2011. Осень Средневековья. СПб. : Изд-во И. Лимбаха. 768 с.
- Чареков С. Л., 2009. Семантическая структура словообразования в русском и алтайских языках. СПб. : ЛГУ им. А.С. Пушкина. 116 с.
- Чеснокова Л. Д., 1988. Синкретизм в сфере членов предложения // Филологические науки. № 4. С. 41-47.
- Щирова И. А., 2008. О человекомерности науки и текста // Стиль. № 7. С. 197-211.
- Щирова И. А., 2013. Текст сквозь призму сложного. СПб. : Политехника-Сервис. 217 c.
- Эко У, 2004. Эволюция средневековой эстетики. СПб. : Азбука-классика. 111 с.
- Элиаде М., 1996. Аспекты мифа. М. : Инвест - 111111: СТ «ППП». 240 с.
- Baerman M., 2007. Syncretism // Language and Linguistics Compass. Vol.1. P. 539-551. DOI: https://doi.org/10.1111/j. 1749-818X.2007.00024.x.
- Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary. cambridge.org (date of access: 30.07.2021).
- Ilyinova E. Yu., Kochetova L. A., 2016. Diachronic Perspective in Text and Discourse Studies: Review of Approaches // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 15, № 4. С. 18-25. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2016.4.2.
- Luraghi S., 2001. Syncretism and the Qassification of Semantic Roles // STUF - Language Typology and Universals. № 54 (1), P. 35-51. DOI: https:// doi.org/10.1524/stuf.2001.54.1.35.
- Meiser G., 1992. Syncretism in Indo-European Languages - Motives, Process and Results // Transactions of the Philological Society. № 90. P. 187-218. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-968X.1992.tb01060.x.