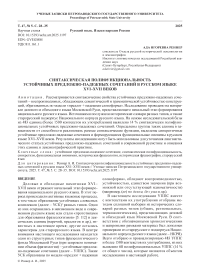Синтаксическая полифункциональность устойчивых предложно-падежных сочетаний в русском языке XVI–XVII веков
Автор: Реинер А.И.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются синтаксические свойства устойчивых предложно-падежных сочетаний – воспроизводимых, обладающих семантической и грамматической устойчивостью конструкций, образованных по модели «предлог + падежная словоформа». Исследование проведено на материале делового и обиходного языка Московской Руси, представляющего начальный этап формирования национального русского языка. Источниками послужили исторические словари разных типов, а также старорусский подкорпус Национального корпуса русского языка. На основе исследовательской базы из 483 единиц (более 1500 контекстов их употребления) выявлено 14 % синтаксически полифункциональных устойчивых предложно-падежных сочетаний. Определены группы таких единиц в зависимости от способности реализовать разные синтаксические функции, выделены синкретичные устойчивые предложно-падежные сочетания и формирующиеся функциональные омонимы в русском языке XVI–XVII веков. Результаты исследования могут быть использованы для уточнения лингвистического статуса устойчивых предложно-падежных сочетаний в современной русистике и описания этих единиц в лексикографической практике.
Устойчивое предложно-падежное сочетание, синтаксическая полифункциональность, синкретизм, функциональная омонимия, историческая фразеология, историческая фразеография, старорусский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147250792
IDR: 147250792 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1197
Текст научной статьи Синтаксическая полифункциональность устойчивых предложно-падежных сочетаний в русском языке XVI–XVII веков
Деловые и обиходные памятники XVI– XVII веков отражают начальный этап формирования национального русского языка. В этот период происходили активные языковые процессы, в том числе образование устойчивых словесных комплексов (далее – УСК)1 разных типов. Одни из них сохранились в неизменном виде в современном русском языке или стали «прототипами для образования фразеологизмов» [5: 112] и лексических единиц (наречий, предлогов и др.), известных в настоящее время; другие остались характерны для старорусского языка. В центре внимания настоящего исследования находится один из структурных типов фразеологического фонда Московской Руси (при широком понимании объема фразеологии) – устойчивые предложно-падежные сочетания (далее – УППС). Такие УСК образованы по модели «предлог + падежная
словоформа», обладают воспроизводимостью, устойчивостью, единством значения (при возможной или отсутствующей идиоматичности) (например, ( не ) по делом, без ума и др.).
В настоящем исследовании УППС вместе с контекстами их употребления отобраны методом сплошной выборки из исторических словарей разных типов (общих, региональных, терминологических), представляющих деловой и обиходный язык Московской Руси. В соответствии с обозначенными хронологическими и жанровыми рамками материал был дополнен примерами из старорусского подкорпуса Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ). Всего отобрано и проанализировано 483 УППС и более 1500 контекстов их употребления, из них выявлено 68 полифункциональных УППС (14 % от общего числа), которые являются объектом исследования в настоящей работе.
СПЕЦИФИКА УСТОЙЧИВЫХ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ
В истории языка УППС образуются постепенно из свободных предложно-падежных конструкций за счет их регулярной воспроизводимости, формирования целостного значения, грамматической и семантической устойчивости оборота. Как отмечает Б. А. Ларин, «накопление идиоматичности» происходит постепенно, а «для “созревания” грамматической неразложимости нужны века» [6: 147, 137]. Сложная природа образования УППС и подверженность разным динамическим процессам (лексикализации2, грам-матикализации3, прагматикализации4) поставили перед исследователями проблему определения лингвистического статуса таких единиц. С одной стороны, воспроизводимость, раздельнооформ-ленность, постоянство компонентного состава, целостность значения, а также возможная образность и экспрессивность сближают УППС с фразеологическими единицами (далее – ФЕ) в соответствии с широким пониманием объема фразеологии5, в который включаются не только идиомы в узком смысле. Такого «фразеологического» подхода придерживаются А. И. Смирниц-кий, П. А. Лекант, Л. И. Ройзензон и др. С другой стороны, УППС обладают и признаками лексической единицы: одноударностью [14: 31], способностью соотноситься с определенной частью речи за счет реализации соответствующей синтаксической функции. Например, Р. П. Рогожникова в Толковом словаре сочетаний, эквивалентных слову6, соотносит эквиваленты слов (в том числе УППС) с разными частями речи (наречием, предлогом и др.); если частеречную принадлежность определить сложно, то указывает синтаксическую функцию ( к лицу ‘подходит, идет кому-л.’ отнесено к словам, выполняющим функцию сказуемого; по существу ‘на самом деле; в действительности’ – к эквивалентам вводных слов и др.). В связи с этим многие лингвисты являются сторонниками «лексического» подхода и рассматривают УППС как эквиваленты слов (наречия, составные предлоги и др.) [10], слова-гибриды [11], неоднословные цельности [16] и др. Существует и третья, «смешанная» позиция, в соответствии с которой УППС интерпретируются как «самостоятельный класс языковых единиц»: одни из них соотносятся с лексемами, другие – с фразеологизмами7.
Однако эти подходы по пониманию лингвистического статуса УППС определились на основе анализа единиц современного состояния русского языка. Как отмечает А. Г. Ломов, в диахронии УСК вообще «не могут быть рассматриваемы с позиции современного состояния языка», «к ним должно быть иное, специфическое отношение» [8: 301]. В связи с этим исследователи исторической фразеологии придерживаются широкого понимания объема фразеологии и рассматривают не только ФЕ, занимающие ядерное положение во фразеологическом фонде донаци-онального состояния языка (идиомы), но и УСК околоядерной и периферийной зон [15: 52]. Впоследствии УППС способны пополнять классы наречий, предлогов, модальных слов, междометий современного русского языка, а также за счет развития переносной и экспрессивно-оценочной семантики могут становиться идиомами или входить в компонентный состав глагольно-именных ФЕ, развивая преимущественную сочетаемость с определенным глаголом.
Таким образом, в настоящем исследовании устойчивое предложно-падежное сочетание понимается как особый структурный тип, входящий во фразеологический фонд делового и обиходного языка Московской Руси.
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ОСОБОЕ СВОЙСТВО УСТОЙЧИВЫХ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ
Грамматическая устойчивость предложнопадежного сочетания заключается в закреплении конкретного значения «в определенной синтаксической функции, например, сказуемого, обстоятельства» и др. [7: 263]. Соответственно, способность языковой единицы выражать оттенки значения в разных синтаксических позициях, то есть наличие синтаксической полифункциональности, может указывать на этапы формирования грамматической устойчивости и развитие лексико-грамматических признаков одной или нескольких частей речи. В таком смысле синтаксическая полифункциональность языковых единиц рассматривается в работах В . В . Виноградова, В. В. Бабайцевой, Г. Н. Сергеевой, и это понимание полифункциональности положено в основу настоящего исследования.
Синтаксическая полифункциональность языковых единиц может указывать: 1) на этапы закрепления конкретного значения в определенной синтаксической позиции, что может выражаться в возможности совмещать признаки двух или нескольких функций (лексико-грамматических разрядов) в одной позиции, то есть в синкретично-сти единицы; 2) на функциональную омонимию, если единица реализует разную семантику (или оттенки значения) в зависимости от синтаксиче- ской позиции и имеет признаки двух или более частей речи [1: 36], [2: 152–153].
Актуальность исследования синтаксической полифункциональности УППС продиктована необходимостью в изучении явления переходности в диахронии для уточнения лингвистического статуса УППС и в современном русском языке, а также потребностью исторической лексикографии в определении специфики функционирования таких единиц в русском языке XVI–XVII веков с целью их описания, разграничения функциональных омонимов и синкретичных образований. Ниже рассмотрены основные типы синтаксической полифункциональности УППС.
УППС КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО И ПРЕДИКАТ С ДАТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ СУБЪЕКТА (17,6 %)8
В деловом и обиходном языке Московской Руси обнаруживаются УППС, которые в обстоятельственной позиции характеризуют действие, а в предикативной функции обозначают состояние / отношение / (не)возможность / (не)желание субъекта, выраженного в предложении дополнением в дательном падеже9. Например, УППС по обычаю способно употребляться в роли обстоятельства в значении ‘так, как принято’ (1) и в функции предиката в значении ‘нравится что-л.’ (2):
-
1) И как вошли в полату х королевскому величеству, и посланники, увидя королевское величество, шапки сняли и, пришед х королю блиско рундука, по обычаю поклонились. НКРЯ: Статейный список П. И. Потемкина (Франция), 1668 г.10
-
2) Теб ю мои сукна по обычаю-ль . Разговорник Т. Ф., 458, 1607 г. [ПОС11, В. 22: 483]12.
В таких же функциях употребляются УППС в (чью-л.) волю ‘столько, сколько хотелось; вдоволь’ (3) и (не) в волю ‘о состоянии (не)желания что-л. сделать’ (4); (не) по делом ‘как (не) принято, (не) по правилам’ (5) и ‘(не) по заслугам кому-л.’ (6) и др.:
-
3) Всяк там пей и ежь в свою волю , и спи довол-но, и прохлаждайся любовно . Сказ. о роск. житии, 41, XVII в. [СОРЯ13, В. 2: 331];
-
4) Мн ю в волю товар иному продать. Разг. Фенне, 280, 1607 г. [СОРЯ, В. 2: 331];
-
5) Делай по делом [po delom], ино пожалован будешь . Аноним. разг., 86 об., сер. XVI в. [СОРЯ, В. 5: 131];
-
6) С лава всякому человеку по делом его . Служба кабаку, 49, XVII в. [СОРЯ, В. 5: 131].
УППС в предикативной функции реализуют отличную от обстоятельственной семантику и демонстрируют иные валентные свойства. Та- ким образом, обстоятельственные УППС (соотносимые с наречиями) и предикативные УППС (близкие словам категории состояния или безличным предикативам) могут интерпретироваться как функциональные омонимы.
УППС КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
И СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (14,8 %)
В этой группе представлены УППС, способные в зависимости от контекста быть как обстоятельством, так и служебным словом (чаще всего предлогом). Как известно, составные предлоги в большинстве своем происходят из предложно-падежных форм за счет грамматикализации, подобный переход УППС в предлоги рассматривается в работах Н. А. Каламовой, Е. Т. Черкасовой, Г. А. Шигановой. Как отмечает Е. Т. Черкасова:
«Сущность перехода отдельных форм полнозначных слов в разряд предлогов состоит в том, что они утрачивают грамматические признаки соответствующей части речи… и приобретают грамматические признаки, присущие словам, принадлежащим к разряду предлогов» [13: 15].
Это явление наблюдается в русском языке XVI-XVII веков: например, УППС в близости реализует значение ‘рядом’ при употреблении в функциях обстоятельства места (7) и предлога с род. пад. (8); УППС во время в функции обстоятельства реализует значение ‘в надлежащее время, своевременно’ (9), в связующей функции – значение ‘на протяжении определенного периода’ (10):
-
7) Н ю приятелских людеи в близости нет и н ю слы-хат . Гр. No 155, XVII – н. XVIII вв. [СОРЯ, В. 1: 188];
-
8) Отведено имъ стр ю лцомъ въ близости города пашенные земли. А. Кунг., 272, 1698 г. [СОРЯ, В. 1: 188];
-
9) На указных своихъ земляхъ хл ю б пос ю ять во время . Баг. Мат., 16, 1639 г. [СлРЯ14, В. 3: 109];
-
10) Во время увеселителных вечеров . Пов. о Фроле Скоб., 156, XVII в. [СОРЯ, В. 3: 100].
Таким образом, УППС в обстоятельственной и связующей функции могут соотноситься с разными частями речи (наречием и предлогом), что указывает на функциональную омонимию.
УППС КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
И ПРИСУБСТАНТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (И/ИЛИ ПРЕДИКАТИВ) (50 %)
УППС этой группы способны употребляться в двух функциях: быть обстоятельством и обозначать признак действия и употребляться как несогласованное определение при обозначении признака предмета. Например, УППС вне ума (своего) и синонимичное без ума функционируют как обстоятельство со значением ‘поступая безрассудно, в бессознательном состоянии по какой-л. причине’ (11), (13) и как несогласованное определение со значением ‘не обладающий способностью разумно мыслить, слабоумный; безрассудный’ (12), (14):
-
11) То де я [В. Горюшкин] государево слово сказалъ за собою на нихъ с сердца, в п нъ ума своего, мстя имъ недружбу. СиД, 579, 1649 г. [СОРЯ, В. 2: 242];
-
12) Детей у него, два сына: Петрушка 15 лет, вне ума , Оска 6лет . Томск., 1700 г. [Сл. Том.15: 291];
-
13) А хто без ума на кабаке пропився, деретца, яко в век на дурака тюрма уготована . Служба кабаку, 57, XVII в. [СОРЯ, В. 2: 64];
-
14) Говориш, што дурак без ума . Аноним. разг., 32 об., 1568 г. [СОРЯ, В. 1: 102].
В современной русистике сочетания, употребляющиеся в определительной функции, рассматриваются либо как отдельный тип (словоформы с атрибутивным значением) [12: 62], либо в группе наречных сочетаний, обозначающих признак предмета (эту функцию большинство лингвистов считают вторичной, развившейся на основе обстоятельственной, поскольку употребление таких единиц как несогласованных определений часто генетически восходит к глагольным со-четаниям16).
В деловом и обиходном языке Московской Руси такие УППС обычно полифункциональны и даже синкретичны: одно и то же сочетание может употребляться в обстоятельственной, атрибутивной, предикативной позиции.
-
15) [Крестьяне] живутъ въ б п гахъ . Шумаков. Акты юрид., 3, 1662 г. [СОРЯ, В. 1: 94];
-
16) За бтлую кабалную жонку, за Анютку Никитину дочь, что вышла в б п гахъ замужъ въ деревню Крутые. Вкл. Нижегор., 40, 1662 г. [СОРЯ, В. 1: 94];
-
17) 4 человека в бегах . Росп. прид., 124, XVII в. [СОРЯ, В. 1: 94];
-
18) Дворъ отъ улицы загороженъ в заметъ . АМГ III, 27, 1660 г. [СлРЯ, В. 5: 239];
-
19) Промеж избы и чюлана с п ни в зам п т . ВПИ-3, № 781, 1, 1695 г. [Сл. Ворон.17, В. 2: 49].
Например, УППС в бегах может функционировать как обстоятельство места со значением ‘там, где кто-л. скрывается’ (15), (16) и как предикат с семантикой ‘скрывающийся’ (17). УППС в замет аналогично способно характеризо-вать действие ‘путем закладывания жердей, досок между кольями (о способе строительства)’ (18) и одновременно реализовать обстоятельственную и атрибутивную функции ‘построенный таким способом’ (19). В примерах (17) и (19) УППС находятся, скорее, в полупредикативной позиции («свернутой» предикативности) при опущенном глаголе: 4 человека (которые находятся) в бегах (обстоятельство места и характеристика субъекта); сени (которые построены) в замет (обстоятельство способа действия и признак предмета). Раскрытие «свернутой» предикативности показывает возможность интерпретирования УППС в том числе и как обстоятельства, что указывает на синкретичный характер таких единиц.
Некоторые УППС в деловом и обиходном языке Московской Руси преимущественно употребляются в атрибутивной и/или предикативной функции, но обстоятельственное значение (чаще всего места) может сохраняться за счет локативной семантики предлога: за (чей-л.) рукой (-ами) ‘подписанный кем-л. (о документе)’ (20); у грудей ‘грудной (о ребенке)’ (21):
-
20) Дали две челобитные за руками . ПНРЯ, 81, XVII в. [СОРЯ, В. 2: 272]; Взять отпись за руками . Хоз. Мор. II, 133, 1650 г. [СОРЯ, В. 2: 177];
-
21) Сына своег Серешку принесла [Татьяна] с собою мала. у грудей . недель в дватцать . МДБП, 233, 1652 г. [СОРЯ, В. 4: 287]; А дочка твоя мала еще у грудей и то п могут своячины твои возпитат . В-К III, 19, 1645 г. [СОРЯ, В. 4: 287].
Таким образом, УППС этой группы демонстрируют разные способы выражения значения (в обстоятельственной и атрибутивной функции, в полупредикативной или преимущественно атрибутивной (и/или предикативной позиции)). Степень одновременного выражения обстоятельственной и определительной функции тоже различна, но объединяет эти УППС в одну группу их возможность совмещать эти значения или реализовывать одно из них в зависимости от контекста. Синкретичный характер УППС демонстрирует семантико-синтаксический потенциал этих единиц (возможность характеризовать действие и предмет в зависимости от контекста, реализуя разные оттенки значения), а также процесс формирования вторичной функции наречия (признака предмета) и особой группы УППС (атрибутивных сочетаний).
УППС КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
И ВВОДНОЕ СЛОВО (И/ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) (17,6 %)
В эту группу входят УППС, способные выступать в обстоятельственной и вводно-модальной функциях. Например, сочетания в подлинник ‘доподлинно; без сомнения’, без сумнения (сомнения) ‘несомненно’, по грехом ‘по ошибке без умысла; к несчастью, на беду’ функционируют как обсто- ятельства (22), (24), (26) и в функции вводного слова (23), (25), (27):
-
22) Того де онъ Кипрюшка въ подлинникъ не знаетъ . ДАИ Х, 330, 1684 г. [СлРЯ, В. 15: 278];
-
23) Она толкнула Марьица и она де в подлинник жеребенка затонула в воду . КА, 84, 1686 г. [Сл. Перм.18, В. 2: 49];
-
24) Безъ сумнениа о такомъ зговоре были бы грамоты учинены на память человекомъ. Польск.д. I, 526. 1517 г. [СлРЯ, В. 29: 26];
-
25) И гетманъ и все войско противъ ляховъ ставились безъ сомн ѣ ния кр ѣ пко. АЮЗР V, 76, 1661 г. [СОРЯ, В. 9: 121];
-
26) Яз того ненароком досп ѣ л, по гр ѣ хом [po-chrechom] я того досп ѣ л, затим на меня не пов ѣ щуй. Разг. Фенне, 229, 1607 г. [СОРЯ, В. 4: 268];
-
27) А своей ми, господине, розъ ѣ ждие грамоты пе-редъ тобою положить не мочно: по грехомъ , господине, у меня та грамота згор ѣ ла . Арх. Стр. I, 154, 1518 г. [СлРЯ, В. 4: 131].
Во многих случаях сложно однозначно определить, к чему относится УППС (к глаголу или всему высказыванию), что может указывать на их синкретичный характер в деловом и обиходном языке Московской Руси.
В эту группу входят и УППС-речевые формулы. С одной стороны, УППС во здравие (кому-л.) и на (чье-л.) здоровье употребляются в качестве обстоятельств ‘для хорошего физического самочувствия’ (28), (29):
-
28) Да челом бью теб ѣ гсдрю моему новиною часть винограду астараханског да кадочку медку своего украинского, чтоб вамъ гсдремъ моимъ кушат во здравие . ПНРЯ, 90, XVII в. [СОРЯ, В. 1: 65];
-
29) Послала я [Д. Ларионова] к теб ѣ [И. С. Ларионову] друг мои связочку извол носит на здорове и связы-ват головушку . ИНРЯ, 66, 1696 г. [СОРЯ, В. 5: 139].
С другой стороны, такие УППС могут функционировать как эквиваленты междометия со значением ‘пожелание здоровья при угощении’ в позиции вводной (уточняющей) конструкции (30) или слова-предложения как реплика диалога (31):
-
30) Буди здоровъ, на твое здоровие [in salutem tuam, auf euere gesundheit]. Лудольф, 51, 1696 г. [СлРЯ, В. 5: 365]
-
31) Во здравье теб ѣ ! Копенг. разг., 33, сер. XVII в. [СОРЯ, В. 3: 244].
Такие УППС фиксируются преимущественно в разговорниках иностранных купцов. В разговорной речи вместо полной конструкции (УППС в сочетании с глаголом) употребляется только УППС, выходящее на коммуникативно-прагматический уровень [9: 19], при этом первичной функцией является обстоятельственная.
Такие УППС со временем способны претерпевать бóльшие изменения за счет десемантизации и прагматикализации [4].
Таким образом, эта группа позволяет увидеть процесс формирования будущих вводномодальных слов и междометий, или дискурсивных слов, обеспечивающих семантическую связность текста [3: 7–8]. Такие УППС могут не вступать в синтаксические отношения с другими компонентами предложения, однако важны для выражения смысла, поскольку используются, чтобы обозначить позицию говорящего в роли вводно-модальных слов или регулировать процесс общения в качестве реплик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрение синтаксической полифункциональности УППС в русском языке XVI–XVII веков позволило сделать следующие выводы.
-
1) Синтаксическая полифункциональность УППС может быть синкретичной, она заключается в способности единицы совмещать несколько функций в одной позиции. УППС, употребляясь в атрибутивной, предикативной или вводной позиции, могут сохранять обстоятельственное значение, но в разной степени. Совмещение признаков обстоятельственной и атрибутивной функции (и/или предикативной) без изменения валентных свойств и семантики демонстрирует развитие вторичной функции наречия (признака предмета) и группы атрибутивных сочетаний. Развитие вводно-модальной функции (и дискурсивной при выходе на коммуникативно-прагматический уровень) происходит на основе обстоятельственной с сохранением значения или с некоторым изменением семантики, что демонстрирует постепенное формирование модальных слов и междометий на базе УППС.
-
2) Функциональными омонимами в деловом и обиходном языке Московской Руси можно считать УППС, функционирующие как обстоятельства (эквиваленты наречия) и предикаты с дательным падежом субъекта (эквиваленты слов категории состояния), как обстоятельства и связующие элементы (чаще эквивалент предлога). Важное значение для разграничения функциональных омонимов в группе УППС русского языка XVI–XVII веков, наряду с некоторой семантической трансформацией, имеет развитие новых синтаксических отношений с компонентами предложения, что и демонстрируют эти группы.