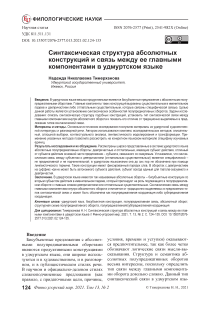Синтаксическая структура абсолютных конструкций и связь между ее главными компонентами в удмуртском языке
Автор: Надежда Николаевна Тимерханова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. В удмуртском языке весьма продуктивными являются бисубъектные предложения с абсолютными полупредикативными оборотами. Главные компоненты таких конструкций выражены существительным в именительном падеже и деепричастием либо отглагольным существительным, которые связаны специфической связью. Целью данной работы является установление синтаксических особенностей полупредикативных оборотов. Задачи исследования: описать синтаксическую структуру подобных конструкций, установить тип синтаксической связи между главными компонентами внутри абсолютного оборота и показать его отличие от традиционно выделяемых в предложении типов синтаксической связи. Материалы и методы. Основным источником исследования послужили материалы из удмуртской художественной литературы и разговорной речи. Автором использовался комплекс исследовательских методов: описательный, сплошной выборки, контекстуального анализа, лингвистического моделирования и трансформации. Применение указанных методов позволило рассмотреть на конкретном языковом материале специфику изучаемых единиц. Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрены широко представленные в системе удмуртского языка абсолютные полупредикативные обороты: деепричастные и отглагольные, имеющие субъект действия, отличный от субъекта действия основной части предложения – субъекта, связанного со сказуемым. Установлено, что синтаксическая связь между субъектом и деепричастием (отглагольным существительным) является специфической – не предикативной и не подчинительной; в удмуртском языкознании она до сих пор не обозначена при помощи лингвистического термина. Такие конструкции имеют фиксированный порядок слов. В оборотах с деепричастием на суффикс -са не может быть автономного субъекта действия, субъект всегда единый для глагола-сказуемого и деепричастия. Заключение. В удмуртском языке имеются так называемые абсолютные обороты – бисубъектные конструкции со вторым субъектом действия в именительном падеже, который претендует на роль подлежащего в полупредикативном обороте с главным словом деепричастием или отглагольным существительным. Синтаксическая связь между главными компонентами внутри абсолютного оборота отличается от традиционно выделяемых в предложении типов синтаксической связи и может быть обозначена как полупредикативная координация либо субпредикативная координация.
Удмуртский язык, бисубъектная конструкция, полупредикативная связь, абсолютный оборот, структурная схема полупредикативного оборота, полупредикативная/субпредикативная координация
Короткий адрес: https://sciup.org/147231325
IDR: 147231325 | УДК: 811.511.131 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.02.124-135
Текст научной статьи Синтаксическая структура абсолютных конструкций и связь между ее главными компонентами в удмуртском языке
Бисубъектные предложения с абсолютными полупредикативными оборотами являются продуктивными конструкциями в удмуртском языке, они широко используются и в художественном, и в разговорном, и в публицистическом стилях речи. В научном и официально-деловом стилях сложноподчиненные предложения (как правило, с придаточными цели, причины, условия, времени и уступки) оказываются предпочтительнее, так как более четко обозначают логические связи мысли-высказывания. Структура и семантика абсолютных полупредикативных оборотов весьма интересны, поскольку определить тип связи между главными компонентами оборота довольно сложно. Данный тип синтаксической связи в удмуртском язы- ке до сих пор не описан, соответственно нет и термина для его обозначения. Какую структуру имеют полупредикативные конструкции с собственным субъектом действия в именительном падеже и какой термин можно применить по отношению к грамматической связи в рассматриваемых сочетаниях – поиску ответов на эти вопросы и посвящена данная статья.
Основной целью статьи является установление синтаксических особенностей полупредикативных оборотов. Для ее достижения решались следующие задачи: 1) описать синтаксическую структуру подобных конструкций; 2) установить тип синтаксической связи между главными компонентами внутри абсолютного оборота; 3) показать ее отличие от традиционно выделяемых в предложении типов синтаксической связи.
В удмуртском языке можно выделить простые предложения с неспрягаемой формой глагола – деепричастием и отглагольным существительным, которые являются осложненными предложениями с полупредикативными оборотами. Такие конструкции относительно полно изучены и в синхроническом, и в диахроническом аспектах. В то же время нет описания типа связи, возникающей между субъектом по-лупредикативного оборота и его действием, выраженным деепричастием или отглагольным существительным, и нет научных источников, говорящих об отличиях данной связи от традиционно выделяемых в удмуртском языкознании. Это обусловливает актуальность исследования.
С учетом вышесказанного объектом исследования стали бисубъектные предложения с абсолютными полупредикативными оборотами, предметом – синтаксическая связь между главными компонентами в абсолютном полупредикативном обороте и синтаксическая структура таких конструкций.
Обзор литературы
Интересующий нас вид связи не описан в научных работах удмуртоведов и финно-угроведов, хотя сами конструкции в удмуртском языке, их связь с основной частью предложения, а именно с
Бисубъектные предложения с абсолютными полупредикативными оборотами являются продуктивными конструкциями в удмуртском языке, они широко используются и в художественном, и в разговорном, и в публицистическом стилях речи. В научном и официально-деловом стилях сложноподчиненные предложения (как правило, с придаточными цели, причины, условия, времени и уступки) оказываются предпочтительнее, так как более четко обозначают логические связи мысли-высказывания.
глаголом-сказуемым, достаточно подробно рассмотрены в работах А. Ф. Шутова, Д. Р. Фокоша-Фукса и других ученых [5, 103 ; 11; 12, 306–307 ; 13; 16; 17, 203–204 ]. В русском языкознании также отсутствует описание подобной связи, что вполне обоснованно: в русском языке нет таких конструкций (за редким исключением деепричастных оборотов с отраженным местоимением).
Образование и функционирование деепричастных и отглагольных конструкций исследуют зарубежные ученые Ф. Й. Ви-деманн, Х. Винклер, А. Клемм, Г. Стипа, Д. Р. Фокош-Фукс и др. Одним из первых на существование в удмуртском языке подобных конструкций указал Ф. Й. Ви-деманн в «Грамматике вотяцкого языка» [19], назвав их сокращенными придаточными, образованными с помощью деепричастий и отглагольных имен. Ученый также говорил о возможности зырянского и удмуртского языков сокращать сложное предложение в простое за счет образования деривата предложения в виде оборота [18, 230 ].
Х. Винклер, исследуя деепричастные, причастные и инфинитивные конструкции в разделе, посвященном синтаксису удмуртского языка, обозначает их как «побочное определение» [20, 97–100 ]. А. Клемм, изучавший синтаксис удмуртского языка в сопоставлении с венгерским и другими языками, сложноподчи-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ненные предложения и синонимичные с ними деепричастные и отглагольные обороты рассматривал на материале текстов Б. Мункачи и Ю. Вихманна. Он выявил древние синтаксические конструкции, к которым отнес и абсолютные обороты [14; 15].
Д. Р. Фокош-Фукс, занимаясь исследованием отглагольных наречий в пермских языках, выделяет деепричастия с суффиксами -са, -тэк, -ку, -тозь и отглагольные существительные, куда ошибочно относит формы с суффиксом - мон , также являющиеся деепричастиями. Ученый говорит и о субъектных деепричастных конструкциях, считая, что они имеют транспозитивный характер, а именно выступают синтаксическими дериватами обычных предложений [12, 306–307 ].
Г. Стипа предполагает, что отглагольные обороты восходят к самостоятельным предложениям [17, 203–204 ].
Из отечественных ученых исследования в этой области вели В. И. Алатырев, Л. И. Калинина, П. Н. Перевощиков и др. [1; 4; 6]. В частности, П. Н. Перевощиков изучению деепричастных оборотов посвятил монографию «Деепричастия и деепричастные конструкции в удмуртском языке» [6].
Большое значение имеют труды А. Ф. Шутова «Гипотаксис в удмуртском языке» и «Пути развития гипотактических отношений в удмуртском языке», в которых подробно описываются этапы изучения абсолютных конструкций и их структурно-семантические особенности1.
Как можно заметить, все вышеперечисленные работы посвящены либо истории образования рассматриваемых языковых единиц, либо структурным особенностям конструкции и морфемной специфике стержневого слова – деепричастия, отглагольного существительного или инфинитива, но ни в одной из указанных работ не говорится о типе синтаксической связи между главными компонентами в абсолютных оборотах бисубъектных предложений.
Материалы и методы
Основным источником исследования послужили материалы из удмуртской художественной литературы и разговорной речи, а также немоносубъектные конструкции, приведенные в работе А. Ф. Шутова «Гипотаксис в удмуртском языке». При этом использовался комплекс исследовательских методов: описательный, метод сплошной выборки и др. При помощи метода контекстуального анализа в некоторых случаях выявлялось отличие субъектов, формально совпадающих по форме лица (местоимение со в обороте и подлежащее-существительное в основной части). Сопоставительный анализ был применен при определении особенностей подчинительного и неподчинительного типов связи в абсолютных конструкциях. Метод лингвистического моделирования и трансформации использовался для демонстрации наличия полной парадигмы лица и числа у полупредикативного оборота и фиксированного порядка слов в данных конструкциях. Применение указанных методов позволяет рассмотреть на конкретном материале языковую специфику исследуемых единиц.
Результаты исследования и их обсуждение
В системе удмуртского языка широко представлены абсолютные полупреди-кативные обороты: деепричастные и отглагольные, имеющие свой субъект действия, отличный от субъекта действия основной части предложения – субъекта, связанного с глаголом-сказуемым. По отношению к рассматриваемым конструкциям мы используем термины «абсолютная конструкция» и «абсолютный оборот», которые в финно-угроведении применяются с XIX в. Термин «абсолютная конструкция» встречается, например, в научной работе П. И. Савваитова «Грамматика зырянского языка», вышедшей в 1850 г. [7, 116]. О подобных языковых единицах в других финно-угорских язы- ках пишут зарубежные и отечественные исследователи: в марийском – Н. И. Исан-баев [3, 96], финском – З. М. Дубровина, Г. Стипа, Л. Хакулинен [2, 135–136; 9; 17, 203], в самодийских – Н. М. Терещенко [8, 305–311]. Большое внимание абсолютным конструкциям уделено и в работе К. Е. Майтинской [5].
Отметим основные признаки абсолютной конструкции: 1) бинарная структура, т. е. наличие двух пар компонентов, претендующих на роль предикативной основы (двух пропозиций), первичная и вторичная предикация (необходимо отметить, что в полупредикативном обороте субъект действия может быть выражен лексически и грамматически, а словесно не выраженный субъект может обнаруживаться в грамматической форме посредством суффикса личного либо лично-притяжательного); 2) разносубъектность действий; 3) равноправие и взаимозависимость компонентов в каждой части; 4) невхожде-ние в структурную основу предложения, но структурно-семантическая соотнесенность, зависимость абсолютной конструкции от основного состава предложения; 5) определенный способ выражения главных компонентов: первый компонент – существительное или местоимение, второй – нефинитная форма глагола или отглагольное существительное; 6) фиксированный порядок следования компонентов: субъект – его действие; 7) особая интонационная структура; 8) возможность трансформации в сложноподчиненное предложение с обстоятельственной придаточной частью.
Так как цель нашей работы – выявление типа синтаксической связи внутри абсолютного полупредикативного оборота, прежде всего рассмотрим виды синтаксических связей, которые традиционно выделяются в удмуртском языке. Основная связь в предложении предикативная – связь между субъектом и его действием/ состоянием – подлежащим и сказуемым; это связь взаимозависимости: Пиналъёс шудо ‘Дети играют’; Веросъёс тунсыкоесь ‘Рассказы интересные’; Корка утялтэмын ‘Дом прибран’. На структурном уровне данная связь чаще всего выражается при
В удмуртском языке можно выделить простые предложения с неспрягаемой формой глагола – деепричастием и отглагольным существительным, которые являются осложненными предложениями с полупредикативными оборотами.
помощи конструкций Nnom– Vf3 либо Nnom – Adj; Nnom – Part.
На второстепенном уровне выделяются четыре вида подчинительной связи в словосочетаниях:
-
1) управление: книгаез учкыны ‘смотреть книгу’, тон сярысь вераськыны ‘говорить о тебе’, гуртысь калык ‘население деревни’ (самые частотные схемы подобных словосочетаний: Nacc… – Vf; Pronnom/inst Postp – Vf; Nell – N, а также Nnom/inst Postp – Vf; Pronacc… – Vf и др.);
-
2) примыкание: юрттыны тыршись-ко ‘стараюсь помочь’, пу корка ‘дом из дерева’, чаляк ветлэ ‘быстро ходит’ (схемы: Vinf – Vf; Nnom – N; Adv – Vf; Praed – Vf и т. д.);
-
3) согласование: вылезлэн коркалэн ‘(у) нового дома’, пиналэсь пужымъёс ‘молодые сосны’ (схемы: Adjdeixis – N; Adjpl – Npl; Prondeixis – N; Partdeixis – N);
-
4) изафет: тынад эшед ‘твой друг’, пу-нылэн быжыз ‘хвост собаки’, коркалэсь кузёзэ ‘хозяина дома’ (схемы: Pron os – N; N – N ; N – N и т. д.). p
gen pos3 abl acc-pos3
На уровне предложения имеется сочинительная связь между однородными (однофункциональными) членами, например: лыз но вож кагаз ‘синяя и зеленая бумага’, уяны но бызьылыны яратӥсько ‘люблю плавать и бегать’, также можно выделить сочинительную связь между неоднородными (разнофункциональными) членами: Вераськимы, ку но кытын ортчоз кенеш ‘Обговорили, где и когда пройдет совещание’; пояснительную связь: Кырскал – мукет сямен койык – гурт пуме вуылэ ‘букв.: Дикая корова – иначе лосиха – приходит на окраину деревни’; присоединительную связь: Туж зол кынмизы пиналъёс, тужгес но пичи-ос ‘Очень сильно замерзли дети, особенно малыши’.
В системе удмуртского языка широко представлены абсолютные полупредикативные обороты: деепричастные и отглагольные, имеющие свой субъект действия, отличный от субъекта действия основной части предложения – субъекта, связанного с глаголом-сказуемым.
В нашей работе речь пойдет о синтаксической связи деепричастия / отглагольного существительного с субъектом в абсолютных конструкциях и их грамматической структуре. Например, в предложении Эше вуытозь, мон уг кошкы ‘Пока не придет (мой) друг, я не уйду’ в данной конструкции имеются субъект эше ‘(мой) друг’ и псевдопредикат – деепричастие вуытозь ‘пока не придет’; структурная схема: Nnom-pos – Geradv. В предложении Мон бертыку, тон дорын ӧй вал ни ‘Когда я вернулся (домой), тебя дома уже не было’ – субъект мон ‘я’ и псевдопредикат – деепричастие бертыку ‘когда вернулся (домой)’; структурная схема Pronnom – Geradv. В предложении Оля лыктымтэен, Саня туж кайгыриз ‘Из-за того что не приехала Оля, Саня очень сильно расстроился’ – субъект Оля и псевдопредикат – деепричастие лыктымтэен ‘из-за того что не приехала’; структурная схема Nnom– Geradv-neg.
Рассмотрим также связь отглагольного существительного с его субъектом в отглагольных оборотах. В предложении Куазь зо-рем бере, гуждор вож-вож луиз ‘После того как прошел дождь, трава стала зеленая-зеленая’ – субъект куазь ‘дождь’, псевдопредикат – отглагольное существительное зорем ‘прошел дождь (букв.: выпадение дождя)’ и послелог бере ‘после того как’; структурная схема Nnom – GerN Postp. В предложении Богатырёв кабинетэ вамыштэм бере ик, Анатолий Михайлович ӝӧк сьӧрысь султӥз но пумитаз мынӥз (И. Гаврилов) ‘Сразу же после того как Богатырев вошел в кабинет, Анатолий Михайлович встал из-за стола и шагнул навстречу (ему)’ – субъект Богатырёв, псевдопредикат – отглагольное существительное вамыштэм ‘вошел (букв.: вхождение)’ и послелог бере ‘после того как’; структурная схема Nnom – GerN Postp (на месте существительного может быть местоимение, тогда схема будет такова: Pronnom – GerN Postp). И деепричастие, и отглагольное существительное нами обозначены как псевдопредикат, в связи с тем что подобные слова ведут себя как предикат, но на его роль претендовать не могут, поскольку, во-первых, не являются глаголом-сказуемым, во-вторых, зависят от сказуемого как второстепенный член предложения. Говоря о структуре абсолютной полу-предикативной конструкции, необходимо также отметить, что в исследуемых конструкциях фиксированный порядок компонентов: субъект всегда находится перед деепричастием или отглагольным существительным, выражающим его действие. Нельзя сказать: Вуытозь эше…; Бертыку мон…; Лыктымтэен Оля…; Вамыштэм бере ик Богатырёв…
В связи с особенностью абсолютных по-лупредикативных конструкций, а именно из-за того, что в них два субъекта, один из которых связан со сказуемым, а другой – с деепричастием или отглагольным существительным, эквивалентный дословный перевод деепричастных конструкций на русский литературный язык невозможен. Поскольку по правилам русского языка сказуемое и относящееся к нему деепричастие должны иметь один и тот же субъект действия, рассматриваемые конструкции, составляющие в языке-источнике осложненное простое предложение, переводятся как сложноподчиненное предложение. Бисубъектные2 предложения с отглагольными оборотами также лучше переводить как сложноподчиненные предложения, хотя иногда возможно перевести и как предложно-падежную конструкцию, – подобных отглагольных оборотов в русском языке нет.
Итак, в удмуртском языке субъекты действия в основной части высказывания и деепричастном обороте могут различаться. В связи с этим нас интересует, какой тип грамматической связи представлен в сочетании деепричастия / отглагольного существительного и его субъекта.
Субъект действия в абсолютном полу-предикативном обороте удмуртского языка имеет форму именительного падежа и функционально равнозначен подлежащему в основной части высказывания, но, как уже было сказано выше, деепричастие / отглагольное существительное не может быть полноценным предикатом высказывания, так как является формой, подчиняющейся глаголу-сказуемому. В целом де-епричастные/отглагольные обороты и в моносубъектных, и в бисубъектных конструкциях имеют обстоятельственно-характеризующее значение, но внутри оборота в бисубъектных предложениях появляется дополнительный предикативный оттенок.
Возникает вопрос, как обозначать связь между деепричастием / отглагольным существительным и его субъектом, находящимся в обороте, – при анализе словосочетаний в предложении определить данный тип связи через традиционные термины невозможно, поскольку нет подходящего термина. Если предложение является моносубъектной конструкцией, проблем не возникает, например: Туруханской ссылкаысь бертыку м , мон сое алвылам вози (И. Гаврилов) ‘Возвращаясь из Туруханской ссылки, я ее на коленках держал’. В деепричастном обороте Туруханской ссылкаысь бертыкум имеются только такие словосочетания, которые можно обозначить через традиционные термины: ссылкаысь бертыкум ‘возвращаясь из ссылки’ – словосочетание с грамматической связью «управление»; Туруханской ссылкаысь ‘из Ту-руханской ссылки’ – словосочетание со связью «примыкание». Другой пример: Кион пытьыос кузя коня ке мынэ-мез бере, со лӥял вылэ пуксиз но тамак аратӥз (И. Гаврилов) ‘После того как
И деепричастие, и отглагольное существительное нами обозначены как псевдопредикат, в связи с тем что подобные слова ведут себя как предикат, но на его роль претендовать не могут, поскольку, во-первых, не являются глаголом-сказуемым, во-вторых, зависят от сказуемого как второстепенный член предложения.
Подобные конструкции с определительными местоимениями есть и в русском языке: Лева, сам того не замечая, быстрыми шагами пересек комнату... (А. Битов). С полчаса они сидели молча, каждый думая о своем (В. Каверин). Как отмечает О. М. Чупашева, семантика местоимения в этих случаях зависит от его связи с тем или иным главным членом. В сочетании с подлежащим реализуется значение «кто-то лично производит действие или испытывает его», в сочетании со сказуемым – значение «самостоятельно», «своими силами, без помощи или требования со стороны». Перемещаясь в деепричастный оборот, определительные местоимения отрываются от подлежащего – личного местоимения (существительного), «выходят из состава» синтаксически нечленимого сочетания, разрушая его, становясь самостоятельными. Однако они сохраняют смысловую связь с подлежащим, дублируя форму его рода и числа. «Безусловно, субъект-местоимение в именительном падеже в составе деепричастного оборота отличается от субъекта-подлежащего, так как является отраженным, анафорическим: деепричастие и в этом случае сохраняет свои связи с субъектом-подлежащим предложения, тем более что особый субъект, отличный от подлежащего, у деепричастия в двусоставном предложении объективно невозможен» [10, 65, 66, 67 ].
В отличие от русского языка в удмуртском встречаются и бисубъектные конструкции с определительным местоимением: Ачид ужатэк, куазь уз сёт (посл.) ‘Если сам не будешь работать, от погоды не жди (букв.: погода не даст)’. В предложении два субъекта: ачид ‘сам/сама’ и ку-азь ‘погода’.
Итак, в удмуртском языке в абсолютном полупредикативном обороте наряду с субъектом-подлежащим основной части предложения возможен и иной субъект, например: Феня солы гожтэт мычыку, огшоры гинэ юаз [Камаев]… (Р. Вали-шин) ‘Когда Феня протянула ему письмо, так просто спросил [Камаев]…; Юся вал гидэ вуыку, Оникей отын вал ини (Р. Ва-лишин) ‘Когда Юся подходила к хлеву, Аникей был уже там’. В первом пред- ложении субъект деепричастия мычыку ‘протянув’ – Феня, во втором – субъект деепричастия вуыку ‘подходя’ – Юся. В обеих конструкциях равноправная взаимная связь: Феня ма карыку? ку? ‘Когда Феня что делала? (букв.: что делая?)’ - Кин мы-чыку? ‘Кто протянул? (букв.: протянув?)’; Юся ма карыку? ку? ‘Когда Юся что делала? (букв.: что делая?)’– Кин вуыку? ‘Кто подходил? (букв.: подходя?)’.
Рассмотрим предложение с отглагольным оборотом: Бакин кошкем бере, Вара-ен Сергей кӧня ке чалмыт пукизы (И. Гаврилов) ‘После того как ушел Бакин, Варя с Сергеем какое-то время посидели молча’. В сочетании Бакин кошкем бере также равноправная взаимная связь: Бакин мар карем бере ? ку ? ‘После того как Бакин что сделал? (букв.: что сделав?)’ – Кин кошкем бере? ‘После того как кто ушел?’. Следовательно, сочетание слов ведет себя точно так же, как подлежащее и сказуемое.
В предложении может быть одновременно и деепричастный, и отглагольный оборот каждый со своим субъектом (лексически и грамматически выраженным либо не выраженным): Кузёзы тазьы ке-нешылэмысь, лэся, Фроловлы повестка сётэм бере… Шабалинлэн сюлэмаз висён кадь маке каръяськиз (Р. Валишин) ‘Оттого что председатель так советовался, видимо, после вручения повестки Фролову… в сердце Шабалина поселилось что-то вроде болезни’. В деепричастном обороте кузёзы кенешылэмысь ‘оттого что председатель советовался (букв.: советуясь)’ равноправная взаимная связь: кузёзы ке-нешылэмысь ‘оттого что председатель советовался (букв.: советуясь)’, в отглагольном обороте Фроловлы повестка сётэм бере ‘после вручения повестки Фролову’ субъект лексически и грамматически не выражен, но подразумевает неопределенное лицо (аналог односоставного неопределенно-личного предложения): (соос) сё-тэм бере ‘после (их) вручения’.
Приведем другие примеры с лексически не выраженным вторым субъектом, который обозначен лишь грамматически – при помощи личного суффикса: Уно калык ке-ляз Микиез, гурт пуме потытозяз (Н. Васильев) ‘Много народа провожало Мишу, пока [он] не вышел за окраину деревни’. Субъект Миша выражен через суффикс -з 3-го лица и нулевой суффикс единственного числа. Нюлэскы мыныкузы, анай-атай-ёссы котьку ик верало… (Н. Васильев) ‘Когда [дети] идут в лес, (их) родители всегда говорят…’. Субъект дети (по контексту) выражен через суффикс -з 3-го лица и суффикс -ы множественного числа.
Необходимо отметить деепричастные обороты, в которых не бывает своего субъекта, - это конструкции с суффиксом -са : Мунчое пырыса, чылкыт дӥсь дӥсяса, Мики кӧлыны выдӥз (Н. Васильев) ‘Сходив в баню, надев чистую одежду, Миша лег спать’. Микиез адӟыса, со, юг тӧдьы тушсэ маялтыса, шуныт пальпотӥз (Н. Васильев) ‘Увидев Мишу, он, погладив (свою) белоснежную бороду, ласково улыбнулся’. Из абсолютных конструкций нужно исключить и предложения со спаренными глаголами (деепричастие + глагол как нечленимое сочетание слов с одним общим значением), так как из-за синтаксической нечленимости они не могут иметь разные субъекты: Нош ӧз ке лыкты сыӵе мурт, верамме пиедлэн пиез-лы вераса кельты (Н. Васильев) ‘А если не придет такой человек, сказанное мной передай сыну (своего) сына’ ( вераса ‘сказав’, кельты ‘оставь’).
Что касается терминологии, то имеющийся в науке для обозначения связи деепричастных и причастных оборотов с глаголом-сказуемым термин «полупре-дикативная связь» считаем возможным использовать и для обозначения связи внутри оборота между деепричастием / отглагольным существительным и его субъектом. Рассматриваемые компоненты ведут себя как подлежащее и сказуемое (субъект и его действие), но все же их связь нельзя назвать предикативной – лишь полупредикативной. При этом связь между деепричастным/отглагольным оборотом и глаголом-сказуемым является по-лупредикативной подчинительного типа, а между нефинитными формами и субъ- ектом внутри оборота – неподчинительного типа. Налицо контаминация двух типов связей: непредикативной (полупредика-тивной) и предикативной. На наш взгляд, для анализа подобных сочетаний в вузе целесообразно ввести термин «полупре-дикативная координация» либо «субпредикативная координация»3, а в школьной практике не предлагать для анализа такие сочетания.
Обосновывая логичность использования термина «полупредикативная координация» либо «субпредикативная координация», приведем еще один языковой факт – нередкое использование личных суффиксов при некоторых деепричастиях, а именно при формах с суффиксом - ку (при суффиксах -тозь, -(э)мен , -мтэен , -(э)мысь(ты) , - мтэысь(ты) также могут быть личные суффиксы). Трансформировав пример Юся вал гидэ вуыку, Оникей отын вал ини, получим такие варианты форм: Мон вал гидэ вуыкум, Оникей отын вал ини ‘Когда я подходил(а) к хлеву, Аникей был уже там’; Тон вал гидэ вуыкуд… ‘Когда ты подходил(а) к хлеву…’; Юся вал гидэ вуыкуз… ‘Когда Юся подходила к хлеву…’; Ми вал гидэ вуыкумы… ‘Когда мы подходили к хлеву…’; Тӥ вал гидэ ву-ыкуды… ‘Когда вы подходили к хлеву…’; Соос вал гидэ вуыкузы… ‘Когда они подходили к хлеву…’ . Как видим, деепричастие и субъект координируют форму по лицу и числу, образуя парадигму, подобно глаголу-сказуемому. Так же ведет себя и отглагольное существительное: Воложкаысь бертэм бераз, общежитиысь сторожиха пичи гинэ бумага сётӥз. (Мон) Волож-каысь бертэм берам… ; (Тон) Воложкаысь бертэм берад… ; (Со) Воложкаысь бер-тэм бераз… ; (Ми) Воложкаысь бертэм берамы… ; (Тӥ) Воложкаысь бертэм бе-рады… ; (Соос) Воложкаысь бертэм бера-зы…
Приведем пример синтаксического анализа в вузе. Тон Тузьмое вуытозь, куа-зед но ӟардон пала кариськоз (Р. Валишин) ‘Пока ты доедешь до Тузьмо, рассвет при-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ близится’. Тон Тузьмое вуытозь – сложное сочетание слов: 1) Тузьмое вуытозь ‘пока доедешь до Тузьмо’ – словосочетание простое, подчинительное, модель: N + Geradv; с главным словом деепричастием, отношения обстоятельственные (места, вопрос кытчыозь вуытозь? ‘докуда доезжая?’); грамматическая связь – управление, часть обстоятельства (выраженного деепричастным оборотом); 2) тон вуы-тозь ‘пока ты доедешь’ – сочетание слов простое, полупредикативное; модель: Pronnom + Geradv; грамматическая связь ( кин вуытозь? ‘пока кто не приехал?’; тон ма карытозь ? ‘пока что не сделал ты?’) – полупредикативная/субпреди-кативная координация, в предложении часть обстоятельства (выраженного деепричастным оборотом). Или: Гужем каникул вуэм бере ик, Сергей Ижевске кошкиз (И. Гаврилов) ‘Сразу после наступления летних каникул Сергей уехал в Ижевск’. Гужем каникул вуэм бере ик – сложное сочетание слов: 1) гужем каникул ‘летних каникул’ – словосочетание простое, подчинительное; модель: Nnom + Nnom; с главным словом существительным ( каникул ), отношения атрибутивные ( кыӵе каникул ? ‘какие каникулы?’); грамматическая связь – примыкание, часть обстоятельства времени (выраженного отглагольным оборотом); 2) каникул вуэм бере ‘после наступления каникул’ – сочетание слов простое, полупредикатив-ное; модель: Nnom + GerN Postp; грамматическая связь ( мар вуэм бере? ‘сразу после наступления чего?’; каникул ма луэм бере ик ? ‘после того как что произошло с каникулами? букв.: что сделали каникулы?’) – полупредикативная/суб-предикативная координация, часть обстоятельства времени (выраженного отглагольным оборотом).
Заключение
В удмуртском языке имеются бисубъ-ектные конструкции со вторым субъектом действия в именительном падеже, который претендует на роль подлежащего в полупредикативном обороте с главным словом деепричастием или отглагольным существительным. Такие синтаксические единицы принято называть абсолютными оборотами либо абсолютными конструкциями, в сравнении с предикативными и подчинительными сочетаниями слов они имеют специфические признаки, в частности разносубъектность, равноправие и взаимозависимость компонентов и др. Из абсолютных конструкций нужно исключить деепричастные обороты с суффиксом -са, так как в них не бывает своего субъекта; кроме того, всегда моносубъектны предложения со спаренными глаголами. Синтак- сическая структура рассматриваемых язы- ковых единиц имеет следующие модели: 1) в конструкциях с лексически и грамматически выраженным субъектом действия:
N nom – Ger adv ; N nom-pos – Ger adv ; N nom – Ger adv-neg Pronnom – Geradv; Nnom – GerN Postp; Pronnom –
;
GerN Postp; 2) в оборотах с лексически не выраженным субъектом действия: Geradv1…; Geradv-neg1…; GerN1…. Синтаксическая связь между главными компонентами внутри аб- солютной конструкции отличается от тра- диционно выделяемых в предложении типов синтаксической связи, ее можно обо- значить как полупредикативная координация либо субпредикативная координация.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1 … – 1-е лицо и т. д. (2-е, 3-е)
3 – 3-е лицо abl – ablative – разделительный падеж acc… – accusative – винительный и другие косвенные падежи
Adj – adjectivum – имя прилагательное
Adv – adverbium – наречие deixis – выделительный f – finitum – спрягаемый глагол gen – genetivе – родительный падеж Geradv – gerundium adverbium – деепричастие GerN – gerundium nomen – отглагольное суще ствительное ell – ellativ – исходный падеж inf – infinitivus – неопределенная форма глагола inst – instrumental – творительный падеж
N – nomen substantivum – имя существительное neg – negation – отрицательный nom – nominative – именительный падеж
Part – participium – причастие pl – pluralia – множественное число pos – possessive – притяжательный
Postp – postposition – послелог
Praed – status praedicamento – слово категории состояния
Pron – pronomen – местоимение V – verbum – глагол
Поступила 09.03.2021; одобрена 22.03.2021; принята 30.03.2021
Список литературы Синтаксическая структура абсолютных конструкций и связь между ее главными компонентами в удмуртском языке
- Алатырев В. И. Синтетический тип сложноподчиненных предложений в удмуртском языке // Всесоюзная конференция по финно-угроведению: тез. докл. и сообщ. Йошкар-Ола, 1969. С. 151-157.
- Дубровина З. М. Инфинитивы в финском языке. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. 208 с.
- Исанбаев Н. И. Деепричастия в марийском языке. Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1961. 150 с.
- Калинина Л. И. Субъектные причастные и отглагольно-именные конструкции в удмуртском языке // Вопросы советского финно-угроведения. Саранск, 1972. С. 92-93.
- Майтинская К. Е. Венгерский язык. Ч. 3: Синтаксис. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 375 с.
- Перевощиков П. Н. Деепричастия и деепричастные конструкции в удмуртском языке. Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1959. 328 с.
- Савваитов П. И. Грамматика зырянского языка. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1850. 169 с.
- Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков: Простое предложение. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. 323 с.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. 2: Лексикология и синтаксис. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 292 с.
- Чупашева О. М. Именительный падеж в составе деепричастного оборота // Русский язык в школе. 2007. № 8. С. 64-69.
- Шутов А. Ф. Выражение агенса разносубъектных конструкций в удмуртском языке // Международный симпозиум по дейктическим системам и квантификации в языках
- Европы и Северной и Центральной Азии. Ижевск, 2001. С. 171-172.
- Fokos-Fuchs D. R. Die Verbaladverbien der permisen Sprashen // Acta Lingüistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1958. Köt. 8. Old. 273-342.
- Fokos-Fuchs D. R. Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft. Mit besonderer Rücksicht auf das Problem der ural-altaischen Sprachverwandtschaft. Wiesbaden: Harrassowitz, 1962. 137 S. (Ural-Altaische Bibliothek; 11).
- Klemm А. A mellerendelö es alarendelö viszony kifezese az eszaki osztjak es votjak nyelvben // A Pannonhalmi Föapatsagi Föiskola Evkönyve. Pannonhalmi, 1912. Old. 219-284.
- Klemm А. Magyar törteneti mondattan. Budapest: Magyar Tudomanyos Akademia. 1928-1942. Köt. 1-3.
- Pröhle W. Vergleichende Syntas der ural-altaischen (turanischen) Sprachen. Wiesbaden: Komissionsverlag, 1978. 270 S.
- Stipa G. Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen Sprachen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1960. 290 S.
- Widemann F. J. Grammatik der syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. Saint-Petersburg, 1884. 255 S.
- Widemann F. J. Grammatik der votjakischen Sprache nebst einen kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche. Reval, 1851. 390 S.
- Winkler H. Der Uralaltaische Sprachstamm das Finnische und das Japanische. Berlin, 1909. 316 S.