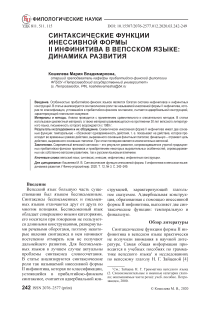Синтаксические функции инессивной формы II инфинитива в вепсском языке: динамика развития
Автор: Кошелева Мария Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Особенностью прибалтийско-финских языков является богатая система инфинитивов и инфинитных конструкций. В статье анализируются синтаксические роли так называемой инессивной формы II инфинитива, которая по классификации, устоявшейся в прибалтийско-финском синтаксисе, считается адвербиальной конструкцией, характеризующей глагольное сказуемое. Материалы и методы. Анализ проводится с применением сравнительного и описательного методов. В статье использован диалектный материал, а также материал развивающегося на протяжении 30 лет вепсского литературного языка, письменность которого возрождается с 1989 г. Результаты исследования и их обсуждение. Семантически инессивная форма II инфинитива имеет две основные функции: темпоральную - обозначает одновременность действия, т. е. показывает на действие, которое происходит во временных рамках действия, выраженного основным финитным глаголом; финальную - отражает цель действия, выраженного основным глаголом. При этом последняя является исключительно вепсской. Заключение. Современный вепсский синтаксис - это результат развития, сопровождавшегося утратой традиционных прибалтийско-финских признаков и приобретением некоторых выразительных особенностей, спровоцированных как собственно вепсским развитием, так и русским языковым влиянием.
Вепсский язык, синтаксис, инессив, инфинитивы, инфинитные конструкции
Короткий адрес: https://sciup.org/147217981
IDR: 147217981 | УДК: 811. | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.03.242-249
Текст научной статьи Синтаксические функции инессивной формы II инфинитива в вепсском языке: динамика развития
Вепсский язык большую часть существования был языком бесписьменным. Синтаксисы бесписьменных и письменных языков отличаются друг от друга по многим позициям. Бесписьменный язык обладает совершенно иными категориями, его носители при говорении не пользуются длинными конструкциями, развернутыми речевыми оборотами, поэтому некоторые явления синтаксиса в нем начинают постепенно отмирать или не получают дальнейшего развития. Для бесписьменных языков в лучшем случае актуальны проблемы синтаксиса словосочетания. В статье анализируются синтаксические роли так называемой инессивной формы II инфинитива, которая по классификации, устоявшейся в прибалтийско-финском синтаксисе, считается адвербиальной кон- струкцией, характеризующей глагольное сказуемое. Адвербиальная конструкция, образованная с помощью инессивной формы II инфинитива, выполняет две синтаксические функции: темпоральную и финальную.
Обзор литературы
Синтаксические функции формы II инфинитива в вепсском языке практически не получили внимания в научной литературе. Самая общая информация приводится в учебных пособиях по грамматике вепсского языка1 и исследованиях по вепсскому глаголу Н. Г. Зайцевой [4]
242 ISSN 2076–2577 (print)
и грамматике вепсского языка М. И. Зайцевой [2], а также в работе финского исследователя Р. Грюнталя, которая в целом также подготовлена в формате учебника [8]. Несколько более расширенный анализ инфинитных конструкций, в том числе II инфинитива, который рассматривается как эквивалент придаточного временного, или темпорального, предложения с союзом konz ‘когда’, содержится в монографии М. И. Зайцевой “Vepsän kielen lauseoppia” [19]. Пожалуй, наиболее информативной до сих пор остается классическая работа Л. Кеттунена по вепсскому синтаксису, описывающая, в частности, инфинитивы [13].
Среди трудов современных авторов, обращавшихся к частным вопросам синтаксических функций и семантики вепсских инфинитивов в русле синхронного языкознания, заслуживают внимания работа J. Ylikoski “Remarks on Veps purposive non-finites” [18] и научные статьи Г. П. Ивановой о полипреди-кативных конструкциях с инфинитивами в вепсском языке [5; 6]. Для анализа привлечены также некоторые теоретические наработки, сделанные на финском языковом материале [17].
Материалы и методы
В статье использован диалектный материал, записанный в полевых условиях, а также собранный из опубликованных образцов вепсской речи [3; 12; 15; 16]. К исследованию привлечен также материал развивающегося на протяжении 30 лет вепсского литературного языка, письменность которого начала возрождаться в 1989 г. В настоящее время у вепсов имеется значительная библиотека художественной литературы. В числе современных источников нужно отметить оригинальные художественные тексты вепсских писателей прозаического и стихотворного характера (Н. Зайцева, О. Жукова, Н. Абрамов, А. Андреева и др.), обширную переводную литературу, и прежде всего переводы Библии (“Uz’ Za-vet”, “Lapsiden Biblii”, “Psalmoiden kirj”
и др.), публицистические тексты газеты “Kodima” и альманаха “Verez tullei”, созданных в эпоху возрождения вепсского языка. В целом материал дает возможность рассматривать становление категории в динамике, историческом развитии.
Результаты исследования и их обсуждение
Форма II инфинитива, будучи отглагольным образованием, несет в себе признаки именной и глагольной форм [7, 162 ]. Именная суть II инфинитива проявляется в возможности его склонения по падежам, подобно имени [10, 87 ]. II инфинитив в вепсском языке существует в двух падежных формах и соответственно образуется с помощью двух падежных показателей: инессивная форма – с помощью показателя -s , форма эссива-инструктива – с помощью показателя - n , которые присоединяются к суффиксу II инфинитива -de / -te : panda ‘класть’: pan + de + s → pandes , pan + de + n → panden ; tabata ‘ловить’: taba + te + s → tabates , taba + te + n → tabaten . Синтаксические функции обеих форм эквивалентны соответствующим падежным функциям. При этом форма инессива II инфинитива указывает на одновременность действия двух глаголов, момент нахождения в процессе, а форма эссива-инструктива – на образ действия. В целом обе формы можно сравнить с деепричастием в русском языке, которое отвечает на вопрос что делая ?
В вепсском языке в отличие от финского обе падежные формы II инфинитива употребляются только в активе ( sa-nudes ‘говоря’, lugedes ‘читая’, mändes ‘идя’, pajatades ‘напевая’, painden ‘нажав’, ližaten ‘добавив’), в то время как в финском употребительны и формы пассива ( sanottaessa ‘говоря’, luettaessa ‘читая’ и т. д.).
В языке вепсов с помощью формы II инфинитива образуются адвербиальные конструкции, которые подчинены глагольному сказуемому в предложении, например: Čajud jodes kundeltihe Alevtinan radiopaginoid ‘Во время чаепития слушали радиопередачи Алевтины’2.
№ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Семантически предложения, в которых употреблена инессивная форма II инфинитива, являются темпоральными [11, 259 ]. В них инфинитный глагол в форме инессива всегда указывает на действие, которое происходит во временных рамках действия, выраженного основным финитным глаголом. Другими словами, действие обоих глаголов – финитного и инфинитного – происходит одновременно [1, 406 ].
Несмотря на то что в предложении со II инфинитивом главным является другое глагольное сказуемое, у него также есть определенные синтаксические свойства. Эквивалентные с точки зрения синтаксиса конструкции с формой II инфинитива фиксируются в родственных вепсскому языках, в частности финском и карельском. Но имеются и отличия. Так, по сравнению с финским языком в вепсском форма II инфинитива не имеет личных показателей и притяжательных суффиксов: Hän segōl’ vepsäks sanudes (вепс.) и Hän sekaantui vepsäksi sanoessaan (фин., - an – притяжательный суффикс 3 л.) ‘Он запутался, говоря по-вепсски’; Lapsid’ vihtutōdes pajatan (вепс.) и Lapsia viihdytellessäni laulan (фин., - ni – притяжательный суффикс 1 л. ед. ч.) ‘Я пою, когда успокаиваю детей’ [13, 201 ]. Притяжательные суффиксы отсутствуют также в ливвиковском наречии карельского языка, ср.: Hän segavui paistes vepsäkse , Minä pajatan lapsii alevutelles .
Отметим, однако, что в образцах вепсской речи сохраняются следы притяжательного суффикса в форме II инфинитива. Чаще всего они встречаются в народной поэзии, например: Kulišt, kulišt sötä mamkō suren rudon lüpste-sañze… pöühäžen kütktesañze (вепс.) ‘Слушала, слушала, дорогая мама, пока большую корову доила… лен полола’. В данных примерах lüpstesañze и kütktesa-ñze – формы II инфинитива, где -s – показатель инессива, -nze – притяжательный суффикс 3 л. Л. Кеттунен полагает, что притяжательный суффикс в приведенных вепсских примерах – это рудимент, оставшийся от более древнего языкового состояния и, возможно, общего прибалтийско-финского фольклорного наследия [13, 212].
Если в инфинитной конструкции есть субъект или агент, выполняющий действие, выраженное II инфинитивом, то он выступает в роли подлежащего, которое представлено существительным в номинативе, например: Gesli vencalo mändes kukištub ženih oiktau g’augau, ka erigandob akaspäi ‘Если, идя к венцу, жених спотыкается, то разведется с женой’ [3, 276 ], где ženih – субъект (существительное в номинативе), kukištub – предикат или сказуемое (финитный глагол в личной форме). Инфинитная конструкция в данном предложении является обстоятельством времени, отвечая на вопрос когда? (при каких обстоятельствах?).
Помимо полных предложений, в которых есть субъект или подлежащее, инес-сивная форма II инфинитива выступает и в безличных предложениях. В таких предложениях субъект как член предложения отсутствует, а главный член предложения выражен личным глаголом, употребленным в значении безличного. Этот глагол обычно используется в форме 3 л. ед. ч. Объект, на который направлено действие формы II инфинитива в подобном предложении, находится в падеже объекта [10, § 547]. В диалектной речи таковым является генитив с показателем -n в единственном числе и -den во множественном, вне зависимости от синтаксической функции формы II инфинитива: Voi n (Gen.) pekstes tegese pehtimeid [13, 212 ] ‘Когда масло взбиваешь (= при взбивании масла), образуется пахта’; Heng lähtob bola n (Gen.) södes [13, 212 ] ‘Дух захватывает, когда бруснику ешь (= поедая бруснику)’.
Стоит обратить внимание на то, что в современных текстах, представленных в вепсскоязычных периодических изданиях (газета “Kodima”, альманах “Verez Tullei”), а также в переводе священных текстов объект, на который направлено действие глагола в форме II инфинитива, нередко употреблен в падежной форме партитива с окончанием -d: Lugedes kirjad (Part.) voib i ičeleze ombelta rahva- haline sädo ‘Читая книгу, можно и себе сшить национальный костюм’3; Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid (Part.) pestes ‘Когда я пришел домой, ты не дал мне воды, чтобы помыть ноги’4.
Данная ситуация объясняется влиянием на авторов текстов соответствующей финской модели, поскольку в процессе университетской подготовки вепсский и финский языки, как правило, изучаются параллельно.
В конструкциях подобного типа объект финитного глагола может одновременно быть выражением агента действия инфинитного глагола. В этом случае в вепсском языке возникает ситуация, которая может привести к непониманию текста или высказывания, что связано с нерегулярностью или полным отсутствием употребления притяжательных суффиксов. Так, вепсское предложение Nagiin muzikan vi-nan jodes [8, 153 ] может обладать двойным смыслом: 1) ‘Я видел мужчину, когда пил вино’; 2) ‘Я видел мужчину, который пил вино’. В соответствующем финском предложении Näin miehen vinaa juodessani ‘Я видел мужчину, когда пил вино’ притяжательный суффикс 1 л. ед. ч. - ni четко указывает на субъект действия, и двусмысленность в семантике предложения исключается .
Инессивная форма II инфинитива в вепсском языке имеет две основные функции:
1) обозначение одновременности действия, т. е. выполняет адвербиальную синтаксическую роль и эквивалентна придаточному предложению с союзом konz ‘когда’: Södes ala pagiže, ср. Konz söd, ala pagiže ‘Во время еды (= когда ешь) не разговаривай’; Ajades telegan huba kohteta ‘Во время езды телегу трудно чинить’ [12, 119]; Nagrdes hän ištuti mindai ühtele kombule ‘Смеясь, он посадил меня на одно колено’5; Minein lähttes kaks’ haugišt putuiki букв. ‘Мне уходя (= перед уходом) две щучки попались’ [2, 108]; 2) обозначение причины или цели действия, выражаемых основным глаго- лом. Инфинитная конструкция (или заменитель предложения), в составе которой используется в этом случае инессивная форма II инфинитива, отвечает на вопрос mikš? ‘к чему? / для чего?’: Silaš kel’ om sanudes ‘У тебя язык, чтобы говорить’; A sured kas’ked rugehen semetes, rugehele puuttas ‘А большие подсеки, чтобы сеять рожь, под рожь жгут’ [3, 67]. Здесь отсутствует (но подразумевается и присутствует синтаксически) сказуемое, выражаемое глаголом-связкой om ‘есть’; Tegiba merdaižed kalan sades ‘Делали мерды, чтобы рыбу ловить’ [3, 216]; Ombel mili kotaižed hirel hebol huzaites, da meren taga kävudes ‘Сплела мне обувь, чтобы на лошади ехать, да за море уйти’ [16, 16].
Следует отметить, что финальная функция у инессивной формы II инфинитива является исключительно вепсской и не встречается в других родственных языках. По мнению А. Пенттиля [14, 153 ], финальная функция развилась из темпоральной (временной). Иначе говоря, примарная темпоральная семантика инессивной формы II инфинитива в некоторых контекстах развивалась в направлении финальной. Это подтверждают следующие примеры, в которых присутствуют обе семантические функции и соответственно допускается два варианта понимания смысла предложения: Otab reguden veden vedades [13, 212 ] ‘Берет сани, когда воду носит’ или ‘Берет сани, чтобы воду носить’. Оба варианта перевода принципиально не отличаются друг от друга по значению, в обоих сани являются объектом для того, чтобы носить воду; Veitš tarbiš kalan tehtes ‘Нож нужен, когда рыбу чистят’ или ‘Нож нужен, чтобы рыбу чистить’; Humbar’ om sobad pes-tes [13, 213 ] ‘Ступа нужна, когда стирают одежду’ или ‘чтобы стирать одежду’.
Языковой материал свидетельствует о том, что финальная семантика инессив-ной конструкции в вепсском языке довольно продуктивна. Она широко представлена в фольклорных текстах, что говорит о ее традиционности. В качестве
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ примера можно привести фрагменты кумулятивных сказок, тексты которых буквально пронизаны данными формами:
Kuna teile nece olut? ‘Зачем вам это пиво?’ Poigan naittes , mindän sades ‘Чтобы сына женить и невестку получить ’ .
Kuna teile mind? ‘ Зачем вам невестка? ’ Lapsuziden tehtes ‘Чтобы детей рожать.’ Kuna teile lapsuded? ‘Зачем вам дети? ’ Iče vanhtuma, ka meiden söttes ‘Чтобы нас кормить, когда состаримся’ [3, 205 ].
Примеры подобного типа свидетельствуют о том, что объект в конструкции с инфинитивом используется в форме генитива (- n ). Отметим, что данная форма объекта характерна не только для финальной конструкции, выраженной формой инессива II инфинитива, но и для временной, речь о которой шла выше. Р. Грюн-таль объясняет генитивную форму ограниченностью времени действия [8, 153 ]. Если же вместо формы II инфинитива используется форма I инфинитива, то в качестве падежа объекта выступает партитив: Mikš tariž vikateh? ‘Зачем нужна коса? ’– Heinäiže n (Gen.) nittes ‘Траву косить’ и Miše nitta heinä d (Part.) ‘Чтобы косить траву’.
Однако примеры не содержат явного указания на ограниченность времени действия. Видимо, показатель объекта -n имеет здесь иную природу. В финском языке есть так называемая причастная конструкция, которую можно сопоставить с временной конструкцией, выраженной инессивной формой II инфинитива, в вепсском: Hän heregan’, kulišt’ heiden bastes ‘Он проснулся и услышал, что они разговаривают’ (вепс.) [15, 97], Hän heräsi, kuuli heidän puhuvan (фин.), где первое активное причастие выражает действие, которое происходит в одно и то же время с действием основного финитного глагола, а объект при этом выступает в форме генитива. Возможно, природа генитивного показателя в конструкциях со II инфинитивом имеет в вепсском языке прибалтийско-финские корни. Иначе говоря, не исключено, что в вепсском языке генитив – это рудимент исторической вепсской конструкции, аналогичной финской, т. е. и в вепсском в прошлом для выражения одновременного действия использовалась конструкция с первым активным причастием, при котором объект имел форму генитива.
В то же время вепсской инфинитной конструкции с финальной функцией эквивалентна финская форма так называемого - minen -инфинитива: Nece puzu ani čoma suusni den pandes (вепс.) и Tämä vakka on hyvin hyvä sultsinoi den panemiseen (фин.) ‘Эта корзина очень хороша (для того), чтобы класть в нее сканцы’ [13, 494 ]. Скорее всего выбор генитива в качестве падежа объекта в данной конструкции вызван именно аналогией с идентичной по синтаксической функции конструкцией в финском языке, где объект с - minen -инфинитивом выступает также в форме генитива. Исходя из этого, можно сделать вывод, что и в инфинитной конструкции с временной (темпоральной) функцией объект в разговорных текстах также был представлен в форме генитива.
В образцах вепсской речи встречаются также примеры, в которых агент или субъект, выполняющий действие, выраженное инессивной формой II инфинитива, выступает в форме адессива: Kulin kurgoi l (Ades.) kukurtes , pajulind u (Ades.) pacurtes , vilulind u (Ades.) vicurtes ‘Слышал журавля крик, пеночки щебетанье, снегиря воркованье’ [3, 207 ] ‘букв.: у журавля..., у пеночки..., у снегиря’.
Анализ источников убеждает в том, что в диалектной речи адессивная форма агента редка. Чаще всего субъект выражается подлежащим в форме номинатива. Агентных конструкций в вепсском языке немного.
В литературном вепсском языке, который используется, например, в СМИ, придаточная конструкция с инессивной формой II инфинитива активно используется. Она выступает в качестве эквивалента русской деепричастной конструкции, которая отвечает на вопрос midä tehtes? ‘что делая?’. Впрочем, в некоторых предложениях форма II инфинитива инесси-ва скорее отвечает на вопрос как? Иными словами, здесь следовало бы указать на образ действия и использовать инструктивную форму: Ei ole muga äi materialoid, kävutades miččid voiži tehta Kalevalaha pojavad eposad ‘Нет такого количества материалов, используя которые можно было бы создать эпос, похожий на «Калевалу»’6; Nikolai kiti pämest rados, jonoštades, miše neciš aigas region sabusti hüvid satusid ‘Николай поблагодарил директора за работу, подчеркнув, что за это время регион добился хороших результатов’7; Iče Nina Grigorjevna starinoiči, miše kactes Kalevala-eposaha hän amu jo tahtoi tehta miččen-se vepsläižen eposan ‘Сама Нина Григорьевна рассказала, что, глядя на эпос «Калевала», она давно уже хотела создать вепсский эпос’8; Nagrdes hän ištuti mindai ühtele kombule ‘Смеясь, он посадил меня на одно колено’9.
Полагаем, что в этом случае данная придаточная конструкция является калькой русских предложений, ср.: Он наслаждался утром, вдыхая холодный воздух . В диалектных же текстах данная конструкция как нехарактерная для разговорной речи используется исключительно редко.
Заключение
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что семантически инессивная форма II инфинитива имеет две основные функции: темпоральную – служит для обозначения одновременности действия, т. е. показывает на действие, которое происходит во временных рамках действия, выраженного основным финитным глаголом, и эквивалентна придаточному предложению с союзом konz ‘когда’; финальную – отражает цель действия, выраженного основным глаголом, отвечает на вопрос mikš? ‘к чему? / для чего? ’ и довольно продуктивна в фольклорных текстах.
Финальная функция инессивной формы II инфинитива является чисто вепсской и, по мнению исследователей, развилась из темпоральной, так как в некоторых контекстах параллельно с темпоральной выступает финальная семантика.
Проведенный анализ убедительно свидетельствует о том, что современный вепсский синтаксис – это результат развития, сопровождавшегося утратой традиционных прибалтийско-финских признаков и приобретением некоторых выразительных особенностей, спровоцированных русским языковым влиянием. Последнее ярко демонстрирует язык современных вепсскоязычных СМИ, в которых придаточная конструкция с инессив-ной формой II инфинитива эквивалентна русской деепричастной конструкции. С другой стороны, просматривается влияние на вепсский синтаксис финского языка, на что указывает, например, выбор падежа объекта в адвербиальных конструкциях.
В целом такие языковые изменения являются логичными, и остается только наблюдать за их дальнейшим развитием.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский фин. – финский
Ades. – Adessiv
Gen. – Genetiv
Part. – Partitiv
Список литературы Синтаксические функции инессивной формы II инфинитива в вепсском языке: динамика развития
- Дубровина З. М. Избранные труды. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. 504 с.
- Зайцева М. И. Грамматика вепсского языка. (Фонетика и морфология). Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 361 с.
- Зайцева М. И., Муллонен М. И. Образцы вепсской речи. Ленинград: Наука. Ле-нингр. отд-ние, 1969. 295 с.
- Зайцева Н. Г. Вепсский глагол: сравнительно-сопоставительное исследование. Петрозаводск: Периодика, 2001. 288 с.
- Иванова Г. П. Полипредикативные конструкции с инфинитивами в форме инес-сива в вепсском языке (в сравнении с финским языком) // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 205-220.
- Иванова Г. П. Средства выражения причинно-следственных отношений в вепсском языке // Гуманитарные науки в Сибири. 2008. № 4. С. 71-76.
- Alho I., Kauppinen A. Käyttökielioppi. Helsinki: SKS, 2009. 239 s.
- Grünthal R. Vepsän kielioppi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2015. 350 s.
- Hakulinen A., Vilkuna M., Korhonen R., Koivisto V., Heinonen T. R., Alho I. Iso suomen kielioppi. Verkkoversio. Helsinki, 2008. URL: http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu. php (дата обращения: 15.05.2020).
- Hakulinen L., Karlsson F. Nykysuomen kielen lauseoppia. Helsinki: SKS, 1995. 426 s.
- Herlin I., Visapää L. Suomen infiniittisten raken-teiden dynamiikka. Helsinki: SKS, 2005. 358 s.
- Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä. Helsinki: SKS, 1926. 146 s.
- Kettunen L. Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus. Helsinki: SKS, 1943. 576 s.
- Penttilä A. Suomenheimoiset sotavangit kielenoppaina // Virittäjä. 1942. № 46. S. 148160.
- Setälä E., Kala J. Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1951. 483 s.
- Sovijärvi A., Peltola R. Äänisvepsän näytteitä. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1982. 171 s.
- Vilkuna M. Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Edita, 2003. 348 s.
- Ylikoski J. Remarks on Veps purposive non-finites // Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki, 2004. P. 231-276.
- Zaitseva M. Vepsän kielen lauseoppia. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2001. 150 s.