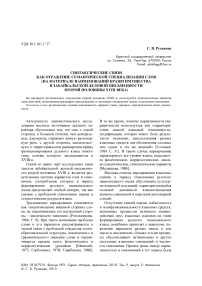Синтаксические связи как отражение семантической специализации слов (на материале наименований кражи имущества в забайкальской деловой письменности второй половины XVIII века)
Автор: Русанова Светлана Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
На материале региональных документов второй половины XVIII в. исследуются сочетаемостные свойства имен действий, позволяющие расширить представление о системных отношениях между отдельными лексемами.
Региональная деловая письменность, вариант слова, синоним, синтаксические связи, валентность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737979
IDR: 14737979 | УДК: 811.161.1'37
Текст научной статьи Синтаксические связи как отражение семантической специализации слов (на материале наименований кражи имущества в забайкальской деловой письменности второй половины XVIII века)
Актуальность лингвистического исследования местных источников делового характера обусловлена тем, что они, с одной стороны, в большей степени, чем центральные документы, отражают живую разговорную речь, с другой стороны, свидетельствуют о территориальном расширении сферы функционирования делового языка нового типа, основы которого закладываются в XVIII в.
Одной из ярких черт исследуемых нами текстов забайкальской деловой письменности второй половины ХVIII в. является разветвленная система вариантов слов и синонимов, употребление которых в период формирования русского национального языка представляет особый интерес, так как связано с проблемой становления нормы и стилистических ресурсов языка.
Традиционно варьирование понимается как «видоизменение внешней стороны слова, не затрагивающее его внутренней стороны – лексического значения» [Рогожникова, 1966. С. 9]. При таком понимании проблема слова и его вариантов рассматривается в тесной связи с проблемой тождества словообразовательной структуры, лексического и грамматического значения слова и ограничивается прежде всего фонетическим и морфологическим уровнями [Шанский, 1972; Горбачевич, 1978; Тарабасова, 1986].
В то же время, понятие вариативности (вариантности) используется как «характеристика всякой языковой изменчивости, модификации, которая может быть результатом эволюции, использования разных языковых средств для обозначения сходных или одних и тех же явлений» [Солнцев, 1984. С. 31]. В таком случае варьирование характеризует все уровни языка; выделяются фонетические, морфологические, лексико-семантические, синтаксические варианты [Малышева, 1986].
Высокая степень варьирования языковых единиц в период становления русского национального языка обусловлена культурно-языковой ситуацией, характеризующейся сложной динамикой взаимоотношения книжно-славянской и народной разговорной стихий.
Отсутствие единой нормы, избыточность и полифункциональность языковых средств, вызванных процессом активного взаимодействия двух языковых идиомов на этапе формирования русского национального языка, неизбежно приводят к широкому появлению вариантов разных типов, в том числе и лексических. Однако эти же процессы обусловливают активизацию и других системных языковых отношений, в частности синонимии. Причем грань между вариативностью и синонимией в тот период была
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология
настолько зыбкой, что обнаружить ее подчас весьма сложно. И здесь пристального внимания заслуживают сочетаемостные свойства слов. Именно сочетаемость варьирующихся слов с другими словами, а также единство их стилистической окраски, по мнению И. А. Малышевой, занимающейся исследованием варьирования языковых средств в письменных памятниках XVIII в., оказываются основным критерием, который позволяет установить семантическое тождество лексических единиц, тем самым интерпретировать их как варианты [Там же. С. 65].
«При варьировании мы имеем равноценные замены, не преследующие цели что-либо уточнить, конкретизировать, придать чему-либо иную окраску <...>. Совсем другое дело при использовании синонимов: все те цели, которые безразличны для варьирования, в синонимии выступают на первый план» [Там же. С. 66].
Объектом нашего исследования являются номинации кражи имущества как преступления против личности. В языке забайкальской деловой письменности второй половины XVIII в. для обозначения этого смысла используются следующие лексемы: покража - воровство - кража - похищение. В данной статье рассматриваются семантико-синтаксические особенности слов покража , кража и похищение . При внешней смысловой и функциональной идентичности эти слова в исследуемых деловых памятниках отличаются синтаксическими связями, количеством возможных валентностей, способностью употребляться в составе устойчивых формул.
Кража и покража вошли в широкий речевой обиход в XVII в. в рамках приказной традиции. Они не были известны ни старославянскому, ни древнерусскому языку (при наличии глагола красти праславянского происхождения). Не фиксируют книжнославянские и древнерусские тексты и слово похищение , образованное по церковнославянской модели в более поздний период (при наличии в древних текстах похытити ‘схватить, ухватить’). Для обозначения кражи имущества в старославянском языке использовались лексемы въсхыщеник , тать-ва , татьвина , в древнерусских памятниках отмечается также въсхищаник , краденик , крадьва [Старослав. яз., 1999. С. 157, 293,
493, 690; СДЯ XI-XIV, 1991. С. 288, 280; Срезн., 1893. Т. 1. С. 430, 1311].
Среди исследуемых имен в деловых документах Забайкалья XVIII в. наиболее употребительной является народно-разговорная лексема покража (в среднем, на 65 словоупотреблений слова покража приходится 50 словоупотреблений кража и 18 - похищение ). Широкая сфера функционирования, стилистическая нейтральность, неограниченные сочетаемостные возможности данного слова позволяют считать его ключевым в ряду вышеназванных лексем, определяющим их лексико-семантические и морфолого-синтаксические отношения в региональной деловом узусе.
В большинстве документов у слова покража обнаруживаются 3 обязательные синтаксические валентности: объекта ( покража чего? ), пациенса ( покража у кого? ), места ( покража откуда? ). Ср.: Рапортъ о покраже U канонира Петра КЦзба | това в Тресковскои слободе в зимовье у посадского | М едора ^ рышкина из санеи суз Денгами и товаромъ | на тридцать р и блевъ (НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 48, л. 1, 1769); с поданного во оное правление от селског ^ заседателя Ьосимова в покраже у него | денегъ i протчаго о6явления (НАРБ: указ, ф. 88, оп. 1, д. 463, л. 17, 1786); о покраже из онои зем-скои избы <...> денегъ (НАРБ: доношение, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 24, 1788); в покраже у ни х 14 ч ис квартиры отставного | салда-та Прасалова вещеи и денегъ (НАРБ: рапорт, ф. 88, оп. 1, д. 561, л. 1, 1789); по <..> следственному делу о покраже у завод | чика Паколкова <...> казенной соли (НАРБ: сообщение, ф. 20, оп. 1, д. 1616, л. 117, 1793).
Указание на субъект, имущество которого подверглось краже, кроме конструкции с предложным родительным (у кого?), эксплицируется в исследуемых документах с помощью притяжательного местоимения, представляющего вариативный способ выражения данного значения. Ср.: и в покраже вышеписанныхъ моихъ пожитковъ | и де-негъ имею точное на нево Трутнева сумне-ние (НАРБ: доношение, ф. 20, оп. 1, д. 40, л. 2 об., 1784); на подаваемое ко оным делам о™ меня прошение | в покраже верхнеудински” мещанином Герасимо” Плюсни | ны” споросои моеи свиньи взятъ былъ в поли-цыю (НАРБ: прошение, ф. 88, оп. 1, д. 674, л. 1, 1797); и по уходу ево того числа | в ночи взделалась из моего дому покража (НАРБ: объяснение, ф. 90, оп. 1, д. 11, л. 47, 1798).
Синтаксически факультативной у лексемы покража является валентность агента кражи, соответствующая обязательному семантическому актанту исследуемых имен действия: требование прислано было о покраже | онаго ескадрона драгуном Улано-вымъ | в кабанском остроге из лавки <…> то | варовъ и денегъ (НАРБ: промемория, ф. 88, оп. 1, д. 282, л. 31, 1781); поданное от селенгиског w | мещанина I вана З u ева <…> о покра | же у него неведомыми ворами из дом u | ево пожитковъ обявление (НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 813, л. 20, 17872); по делу о покраже кресницеи ево | девкои Новокреще-нои Федосьеи у купца Федосея | Шелгачева разныхъ в h щеи (НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 2683, л. 1, 1795). Часто причины языковой нереа-лизованности данной позиции кроятся в пресуппозиции, а именно: либо в отсутствии у говорящего точной информации о субъекте кражи, либо, наоборот, в прозрачности описываемой ситуации, не требующей специальной экспликации. Ср.: ссылнои Бел | ченковъ при допросе о покраже днгъ пока-залъ и сие, что в прошломъ 1785 год u в бытность ево | при полиции в ходокахъ <…> покралъ обще селенгинскаго вто | раго баталиона с профоссомъ Михаиломъ | Светлегодскимъ четыре чашки ч u г u нныхъ (НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 463, л. 75, 1787).
Общую картину употребления лексемы покража дополняют немногочисленные контексты, в которых данная лексема встречается без каких-либо уточняющих дополнений: а того же марта 30го числа обнаружились и виновники покражи (НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 463, л. 82, 1787); дабы онъ сего крестьянина | яко уже обличенного в покраже допросилъ какъ подле | жит (НАРБ: прошение, ф. 88, оп. 1, д. 469, л. 91, 1793).
Лексема кража также свободно подчиняет себе слова и предложно-именные группы слов, соответствующие семантическим актантам объекта, пациенса, места кражи. Ср.: за кражу там же в крепос | ти у солдата Сергеева изъ ящика кошелька | з денгами (НАРБ: экстракт, ф. 88, оп. 1, д. 534, л. 37, 1788).
Единство стилистической окраски, идентичность синтаксических связей свидетельствуют об использовании данных имен действия как равноименных замен, находя- щихся в отношении конкуренции. При этом кража встречается и в конструкциях, нетипичных для слова покража, в частности в составе именных групп с анафорической функцией: убоясь за отлuчкu и показанную кражу в ротu явитца | пошолъ внизъ по Селhнге рекh (НАРБ: указ, ф. 88, оп. 1, д. 106, л. 96, 1773); в разсужденiи того что оная кража имъ учинена на малое число денегъ (НАРБ: указ, ф. 20, оп. 1, д. 1616, л. 169, 1794); за помянутую учиненную имъ кражу | на основании воинскаго устава <…> | определено прогнать ево шпицрутенъ чрезъ | тысячу человhкъ (НАРБ: ордер, ф. 11, оп. 1, д. 16, л. 25, 1797).
Кроме того, при широких синтагматических связях в употреблении данного слова обнаруживаются две важные закономерности. Прежде всего, функционирование слова кража регламентировано рядом устойчивых формул.
Самым многочисленным является его употребление в составе формулы определения наказания за совершенное преступление: за пять | самоволных от команды отлу-ченъ j за одн u кражу сеченъ был | батожьемъ пять разъ (НАРБ: ордер, ф. 88, оп. 1, д. 9, л. 343, 1766); гоненъ шпицр u тенъ <…> за кражу у крестьянина с h дла с стременами и за продаж u | за границ u ки-таицамъ чрезъ тысячю жъ члвкъ двенат-цеть разъ (НАРБ: рапорт, ф. 88, оп. 1, д. 91, л. 37, 1772); за побегъ из селенгинскаго пехотного полку и за краж u | у обывателеи лошадеи и протчаго гоненъ шпицрутенъ чрезъ тысячу | члвкъ шесть разъ (НАРБ: экстракт, ф. 88, оп. 1, д. 226, л. 33 об., 1781); за кражу из церкви церковных денегъ го | ненъ шпицрутенъ чрезъ тысячу человекъ шесть разъ (НАРБ: указ, ф. 88, оп. 1, д. 534, л. 45 об., 1788).
Другим типичным способом введения слова кража в деловой текст является использование термина в формуле, информировавшей об инициативном документе, послужившем основанием для составления директивной, отчетно-исполнительной или судебно-следственной документации. Речь идет о формулах-словосочетаниях с варьирующейся предложно-падежной формой по делу, по сообщению, по объявлению в краже – по делу, по сообщению, по объявлению о краже. Ср.: с присланных | от верхне удинского городоваго магистра | та с ратманом Лысковцовам укосну | вших ся по делу в краже у селского заседа | теля Изосимова денегъ i протчаго (НАРБ: ордер, ф. 88, оп. 1, д. 463, л. 31, 1786); по обявлению верх-неудинскаго ме | щанина Григорья Шергина, в краже у него | въ Верхнеудинске в гости-номъ дворе из лавки (НАРБ: сообщение, ф. 88, оп. 1, д. 644, л. 11, 1792); по со Мщению онои нижнеи расправы минув-шаго | июня 21 числа между протчимъ прописывая по че | лобитю де иркутского ар-хиереиского дому служителя | Але^ея Шергина братского острога на крестьяни | на Ивана Кокорина в краже имъ Кокори-нымъ | у него Шергина денегъ (НАРБ: сообщение, ф. 20, оп. 1, д. 257, л. 8, 1784) – по имеющемуся здесь о краже | казенного серебра делу (НАРБ: указ, ф. 88, оп. 1, д. 23, л. 13, 1767); по сообщению отъ оных городнических делъ | <…> о учинивше | ися у сел-ского заседателя Изосимова денгам | и разным вещам краже (НАРБ: сообщение, ф. 88, оп. 1, д. 463, л. 16, 1786).
Обращает на себя внимание сфера функционирования лексемы кража , ограниченная в основном рамками распорядительноуведомительной и отчетно-исполнительной документации (указы, ордера, рапорты, сообщения, экстракты), в которых в первую очередь отражались общенациональные тенденции становления норм литературного языка. Лингвистическое содержание данных видов деловых бумаг во многом определялась их функциональной направленностью, директивным и отчетно-исполнительским характером, что способствовало закреплению в языковом сознании делопроизводителей встречающихся здесь терминологических форм и канцелярских штампов. Именно жанровая закрепленность данной лексической единицы могла послужить одной из причин дальнейшей перспективы ее усвоения в качестве ключевой номинации такого вида преступления, как присвоение чужого имущества.
Определяющим в условиях лексической конкуренции оказывается и аспектуальная характеристика глаголов, мотивирующих термины покража и кража, одинаково связанные с приказной традицией. Усиление нормализационных тенденций в языке приводит к упорядочению средств выражения видовой семантики, вытеснению одних продуктивных моделей другими. Несмотря на активность словоупотреблений глагола покрасть, синтаксическим дериватом которого является покража, в новый деловой язык проникают перфективные глагольные формы с синонимичной приставкой у-, почти не известные приказному языку, но знакомые древнейшим книжным текстам [Старослав. яз., 1999. С. 733; Срезн., 1912. Т. 3 С. 1186]. Ср. в исследуемых документах: за намерение украсть пшеничнои | муки вместо наказания отдаленъ от границы (НАРБ: экстракт, ф. 88, оп. 1, д. 534, л. 37, 1788); кто изъ показанных людеи | у него денги укралъ не ви-далъ (НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 528, л. 5, 1788); сего года в се | нокосное время укралъ у него котелъ меднои (НАРБ: объяснение, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 88 об., 1792). Постепенное расширение сферы функционирования глагола украсть приводит к тому, что покража перестает поддерживаться соответствующим приставочным глаголом, благодаря чему и вытесняется на периферию употребления.
Особый интерес представляет функционирование в памятниках деловой письменности Забайкалья XVIII в. синтаксического деривата похищение , характеризующегося прежде всего объектной валентностью.
Как уже было отмечено, при наличии глагола похытити ‘схватить, ухватить’ суб-стантив с приставкой по- не был известен старославянскому и древнерусскому языкам. В Словаре русского языка XI–XVII вв. примеры, иллюстрирующие значения лексемы похищение ( похыщение ), датируются XVI–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII, 1992. С. 52, 53]. В этот период у слова отмечаются два значения: 1) ‘обретение, стремление к получению чего-л.’, связанное с исконным значением производящего глагола; 2) ‘похищение, захват, грабеж’, изначально не свойственное производящей основе и возможное только в результате изменения семантики глагола похытити .
В XVIII в. круг употреблений лексемы похищение расширяется, обнаруживается дальнейшая специализация семантики слова. Актуализируются два основных значения: ‘насильственное присвоение чужого’ и ‘похищение, кража людей’. Данные значения у слова фиксируются в Вейсмановом лексиконе 1731 г. и Лексиконе Целлария 1746 г. [КСлРЯ XVIII]. Однако в широкий деловой обиход похищение, по всей видимости, входит только во второй половине XVIII в., что подтверждают материалы региональных исторических словарей, практически не фиксирующие данное слово для периода XVII в. – первой половины XVIII в. (см.: [Овчинникова, 2008]).
Функционирование лексемы похищение в языке деловой письменности Забайкалья второй половины XVIII в. свидетельствует о дальнейшей трансформации значения слова в рамках формирующейся терминологической системы. Несмотря на ограниченное количество словоупотреблений, похищение в деловых документах отличается прозрачностью семантики: оно обозначает ‘тайное присвоение (кража) государственного и общественного имущества’, что закономерно обусловливает его жанровую закрепленность. Данное преступление совершается в результате злоупотребления служебным положением или по недосмотру материально ответственных лиц. Объектом похищения обычно являются:
-
• казенные деньги, а также деньги частных лиц, полученные для служебных целей: о самоскореишемъ окон | чанiи всехъ делъ в коихъ заклю | чаитца похищение казенныхъ денегъ (НАРБ: предложение, ф. 88, оп. 1, д. 247, л. 124, 1780); по выше | писанному д h лу о похищенiи денегъ, по конфермацiи его превосходителства 6 числа прошедшаго маия положенное | наказазание бывшаго за казначея сержанта Быкова к лишению чинов (НАРБ: ф. 88, оп. 1, д. 6, л. 1, 1785); по показанiю тре | сковского питеиного дому от сиделца | крестьянина Каргополцова, о похище | нiи у нево выр u ченных за казенныя | питья денегъ илинскими мещана | ми (НАРБ: сообщение, ф. 20, оп. 1, д. 937, л. 17, 1787); въ похищении меня во время проезда <…> | хозяина моего иркутскаго купца Исолянова по | ставщика Андрея Саватеева <…> будучи я в Брянской деревне, в доме | ясашнаго Матфея Смирныхъ, похищено имъ | у меня изъ баргаментовой книшки денегъ (НАРБ: объявление, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 158, 1794);
-
• государственное и общественно значимое имущество: w определении для w хранения w т похище | ния поставленного в опасном месте селенгинского | посацкого Абросима Ясырева (НАРБ: рапорт, ф. 88, оп. 1, д. 40, л. 67, 1768); потребно вамъ в h дать, посл h смерти бывшего в зд h шнем мнстр h | архимандрита Антонiя сколко какого ево движимаго всякаго порознъ | jменiя при томъ денегъ j серебра w сталос, <…> j не
было л jс того к h мъ чего в похищенii (ПЗДП: известие, 44, л. 115 об., 1764);
-
• провиант (воинские хлебные запасы): за умедление к донос u на бывшаго прави-антъ камисара Михалева в похищениj провианта и за протчее гоненъ шпицр u тенъ (НАРБ: рапорт, ф. 88, оп. 1, д. 132, л. 138 об., 1774).
Таким образом, будучи собственно русским новообразованием, лексема похищение отражает языковую динамику начального периода формирования русского национального литературного языка, когда расширяются функции церковнославянского языка, его словообразовательные возможности. Вовлечение славянизмов в деловой язык приводит к активизации отдельных словообразовательных моделей, в частности увеличивается количество отглагольных абстрактных существительных на -ние . Освоение книжного слова, включение его в лексико-тематический ряд сопровождается его семантической трансформацией.
Проведенное нами исследование показывает, что, наряду с параллелизмом и обильной вариативностью наименований, избыточностью средств номинации, закономерных в условиях формирования русского литературного языка нового типа, в языке деловой письменности XVIII в. обнаруживаются тенденции к специализации значения слов, обусловленной стремлением вербально дифференцировать представления, связанные с теми или иными понятиями.
Анализ сочетаемостных свойств имен действий, реализованных в региональных документах второй половины XVIII в., позволяет расширить представление о системных отношениях между рассмотренными лексемами, восстановить отдельные этапы процесса семантического преобразования слов, постепенной перестройки их актантной структуры, выравнивания синтагматических связей между формирующимися синонимами.
SYNTACTIC LINKS AS REFLECTION OF SEMANTIC SPECIALIZATION OF WORDS (ON THE BASIS OF TERMS OF THEFT IN TRANSBAIKALIAN BUSINESS TEXT IN THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY)