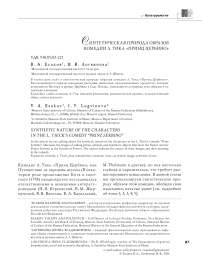Синтетическая природа образов комедии Л. Тика "Принц Цербино"
Автор: Есаков Валерий Анатольевич, Логвинова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6 (74), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идёт о синтетической природе образов комедии Л. Тика «Принц Цербино». Рассматриваются образы говорящих растений, животных, неодушевлённых предметов, которые встречаются Нестору и принцу Цербино в Саду Поэзии. Анализируется природа этих образов и их значение в комедии.
Комедия, л. тик, йенский романтизм, романтическая ирония, художественный образ, синтез искусств
Короткий адрес: https://sciup.org/144160661
IDR: 144160661 | УДК: 930.85:82-221
Текст научной статьи Синтетическая природа образов комедии Л. Тика "Принц Цербино"
Комедия Л. Тика «Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом (В некотором роде продолжение Кота в сапогах)» (1798) неоднократно исследовалась отечественными и немецкими литературоведами (Н. Я. Берковский, В. М. Жирмунский, В. В. Ванслов, В. А. Карельский,
M. Thalmann и другие), но она настолько глубока и поразительна, что требует разностороннего осмысления. В данной статье мы проанализируем синтетическую природу образов этой комедии, обобщая свои изыскания, начатые ранее [см. подробнее об этом: 1; 2; 3; 4; 5].
Мы писали уже о том, что различные образы комедии «Принц Цербино» подвергаются испытанию хорошим вкусом, проходят своеобразную проверку на способность романтического восприятия мира. В этой статье мы коснёмся синтетической природы образов, относящихся к романтическому, текучему и изменчивому миру, который не всем дано воспринять. Таковы образы, относящиеся к сфере природы и искусства (говорящие цветы, музыкальные инструменты, мебель, блюда и напитки, синтетические образы сортов муки, кузнечного дела, человек-собака). Об аллегорических названиях сортов муки и об образе человека-собаки мы уже писали ранее [см.: 2; 3].
По сюжету комедии принц Цербино отправляется с Нестором на поиски хорошего вкуса. На это путешествие его вдохновил волшебник Поликомикус. В течение пяти актов принц встречает различные проявления хорошего вкуса (мельницу, кузницу), но не воспринимает их, руководствуясь неверными ориентирами (хороший вкус он надеется найти в поэзии, искусстве, но не в природе и быту). И вот, разминувшись во время поисков убежавшей от них собаки (человека-собаки Конюха) [3], Нестор и принц Цербино разными путями попадают в Сад Поэзии и встречаются там с необычными персонажами, воплощающими хороший вкус. Синтетическая природа этих персонажей навевает мысль о том, что сам хороший вкус – категория синтетическая, получаемая из сложения самых различных качеств.
Интересно, что все персонажи, обладающие синтетической природой, живут в Саду Поэзии. Там с ними и встречаются принц Цербино и Нестор.
Первыми такими персонажами оказываются деревья и цветы, беседующие с Нестором. В отличие от сказочных беседующих растений и животных, тиковские персонажи не просто обретают дар речи в момент встречи с человеком, но это – их постоянный образ жизни. Сад Поэзии – универсальное собрание поэтических образов и символов, которыми пользуется художник в минуты вдохновения. В Саду, как в большом поэтическом каталоге, все они многомерны и цельны. Лес рассказывает о ветре, дующем сквозь ветви его деревьев, о радости, которую может испытать Нестор в его зелёной тени. Розы, лилии, кусты говорят ему о любви, весне и поцелуях. Тюльпаны – о красках и вызываемых ими радостных чувствах. Птицы поют ему о красоте мира. Небесная синь – о заботе обо всех земных творениях. При этом они живут, дышат, радуются, проявляя это бесконечным потоком слов о любви и радости. Такими же говорящими синтетическими персонажами выступают предметы мебели и пища, которые предлагают Нестору присесть за стол, отдохнуть и пообедать. Говорящие предметы, сделанные руками человека, несут на себе отпечаток человеческой природы. Так, если цветы и деревья навевают человеку мысли о любви и радости, о духовном, о вечном, то стол, стул, пища – говорят о материальных благах и удобстве. У них совершенно иные голоса. Например, Стол, приглашая Нестора, рассуждает: «Как мы рады, что более не стоим снаружи на свободе одинокими зелёными деревьями, и не шумим, и не качаемся, что никому не приносит пользы. Здесь мы служим полезной цели, переработанные и воспитанные [6, с. 180]». Такого рода поэзия, рассудочная, даже в каком-то смысле классицистическая, ближе и понятнее Нестору, чем бесполезная, на его взгляд, лирика природы. Поэтому в ответ на реплику Стола о том, что он в своей службе человеку наслаждается душевным покоем, Нестор говорит: «Да, я сам себе с дерзостью признаюсь, что этот стол и этот стул благороднейшие, разумнейшие создания, кото- рые я ещё, исключая себя самого, встречал на этой земле до сих пор [6, с. 180–181]». В духе этой «гастрономической» и «практичной» поэзии совершенно уместны его слова: «Ваше здоровье, господин Шкаф, чтобы ещё долго проклятый древесный жучок не мог положить конец вашему полезному существованию! [6, с. 181]», «О, вы, высокие духи! Моё сердце, мои челюсти, мой желудок – всё, всё вам вечно предано. Как целесообразно всё же это устройство этого прекрасного мира! [6, с. 181]». Он вспоминает своего друга Леандра, который дал им с Цербино в дорогу книгу об искусстве поэзии (судя по всему, классицистическую): «О, ты, мой честный друг, ты мне эту книжечку давший с собой, здесь ты также бросил бы якорь: здесь ты свои золотые мечты увидел бы в исполнении [6, с. 181]». Затем Нестор обращается к находящимся в комнате музыкальным инструментам. Однако с ними, как и с цветами и деревьями, диалог у него не получается. Эти персонажи, также сделанные руками человека, обладают не стремлением приносить пользу, а каждый – своим неповторимым голосом. Арфа говорит Нестору о неповторимых звуках души, скрипка – об искристом свете и милой шутке, труба – о пламенеющих звуках… Однако Нестор глух к этим поэтическим голосам, потому что не видит поэзии в той человеческой руке, которая вырезала инструменты для пользы «из инертной доски» [6, с. 182]. Ключевым словом для Нестора в поэзии выступает «польза», в то время как для романтического поэта таким словом служат «радость, любовь, наслаждение».
Принц Цербино, увлечённый поисками хорошего вкуса, почти обретает его, но оказывается не готов, под влиянием внушённой ему при Дворе классицистической поэтики, принять его в своё сердце. Ручей поёт ему свою песню, буря рассказывает ему о своём живительном дыхании, дух горы призывает его дать «простор своей душе небесной» [6, с. 186], а он только жалуется на невыносимый груз мыслей, давящий на его закрепощённую душу.
Таким образом, проанализировав персонажей пьесы Л. Тика «Принц Цербино», обладающих синтетической природой, мы приходим к выводу, что они представляют собой три поэтические разновидности, свойственные поэзии классицистической и поэзии романтической. Условно можно разделить их следующим образом:
-
• природные, не сотворённые человеком (цветы, деревья, Лес, Дух горы, Ручей, Буря, Небесная синева). Они несут в себе вдохновение и соответствуют образам лирической поэзии, романтизму. В пьесе эти образы часто встречаются в стихах Геликана и Лилы, Отшельника;
-
• рукотворные персонажи, которые несут в себе пользу человеку (Стол, Стул, Шкаф, Вино и другие). Они соответствуют рассудочной поэзии, классицизму;
-
• рукотворные персонажи, которые несут в себе наслаждение (Арфа, Скрипка, Гобой и другие). Будучи созданы под влиянием вдохновения, они несут в себе наслаждение и вдохновение, соответствуют лирической поэзии, романтизму.
Значение всех этих образов определяется их совместным нахождением в Саду Поэзии. Таким образом, Л. Тик как бы опровергает тезис о вражде классицизма и романтизма, подчёркивая, что поэтические образы, характерные для того и для другого направления, имеют один исток, несмотря на то, что воспринимаются по-разному. Поэтому можно сказать, что, на первый взгляд, пьеса «Принц Цербино» содержит выпады против классицистической поэтики, но при более внимательном рассмотрении мы видим, что драматург хочет их примирить. Образы принца Цербино, который боится, что его душа не выдержит груза поэтических мыслей, и Нестора, который боится, что сойдёт с ума от непривычных ему поэтических образов природы, символичны. Это символ односторонности классицистической поэтики, которая, видя только одну сторону поэзии, связанную с пользой и рассудочностью, не замечает и даже порой отвергает другую её сторону, связанную с буйным цветением поэтических красок и чувств, с порывами духа, не укладывающимися ни в какие строгие рамки.
Иными словами, в пьесе Л. Тика на примере образов персонажей, имеющих синтетическую природу, можно усмотреть мысль о том, что классицизм и романтизм – не соперники, а родственники, образы которых живут в одном Саду Поэзии, имеют единый исток.
Список литературы Синтетическая природа образов комедии Л. Тика "Принц Цербино"
- Есаков В. А., Логвинова И. В. Комедия Л. Тика «Кайзер Октавиан» как образец романтического мифотворчества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 4 (66). С. 23-28.
- Логвинова И. В. Значение образа аллегорической мельницы в комедии Л. Тика «Принц Цербино» // Культура в фокусе научных парадигм: материалы IV Международной научно-практической конференции (Донецк, 6-7 апреля 2016 года) / науч. ред. О. А. Кравченко, Н. Е. Каика. Донецк: ДонНУ, 2016. Вып. 4. С. 110-113.
- Логвинова И. В. Мифологические корни образа человека-собаки в комедии Людвига Тика «Принц Цербино» [Электронный ресурс]. URL: http://azbuka.in.ua/wp-content/uploads/2015/10/Logvinova.pdf
- Логвинова И. В. Поэтика имени в драматургии Л. Тика // Реквием филологический: сборник научных статей, посвящённый памяти Е. С. Отина / под ред. К. С. Федотовой. Донецк, 2015. С. 381-390.
- Логвинова И. В. Принц Цербино между вдохновением и сумасшествием: романтическая мифологема «Сада Поэзии» Людвига Тика // Человек перед выбором в современном мире: проблемы, возможности, решения: материалы Всероссийской научной конференции (27-28 октября 2015 года, ИФ РАН (Москва)): в 3 томах / под общ. ред. М. С. Киселевой. Москва: Научная мысль, 2015. Том 1. С. 186-192.
- Тик Л. Комедии и драмы / пер. с нем. И. В. Логвиновой. Москва: Русский импульс, 2015. 560 с.